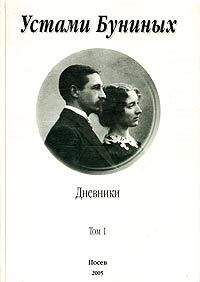11/24 Января.
Я не страдаю о Юлии так отчаянно и сильно, как следовало бы, м. б. потому, что не додумываю значения этой смерти, не могу, боюсь… Ужасающая мысль о нем часто какая [как? — М. Г.] далекая, потрясающая молния… Да можно ли додумывать? Ведь это сказать себе уже совсем твердо: всему конец.
* * *
И весна, и соловьи, и Глотово — как все это далеко и навеки кончено! Если даже опять там буду, то какой это ужас! Могила всего прошлого! А первая весна с Юлием — Круглое, срловьи, вечера, прогулки по большой дороге! Первая зима с ним в Озерках, морозы, лунные ночи… Первые Святки, Каменка, Эмилия Васильевна и это «ровно десять нас числом», что пел Юлий… А впрочем — зачем я пишу все это? Чему это помогает? Все обман, обман.
12/25 Января.
Христианство погибло и язычество восстановилось уже давным-давно, с Возрождения. И снова мир погибнет — и опять будет Средневековье, ужас, покаяние, отчаяние…
14/27 января.
Был секретарь Чешск[ого] посольства — 5000 фр. от Бенеша2 и приглашение переехать в Тшебову. Деньги взял чуть не со слезами от стыда и горя. О Тшебове подумаю.
15/28 января.
Послал Гутману отказ от сотрудничества в качестве поставщика статей для «Утра», предложил 2 рассказа в месяц за 1600 фр. Гутман мое «Еще об итогах» сократил и местами извратил. Пишу «революция» — он прибавляет «коммунистическая». О Горьком все выкинул. […]
У Карташевых был Струве. Тянет меня в Прагу неистово.
16/29 января.
Дождь, темно, заходил к Мережковским. Он спал (пять часов дня) — после завтрака у Клода Фарера. Фарер женат на актрисе Роджерс, когда-то игравшей в Петерб. Она только что получила письмо от Горького: «В Россию, верно, не вернусь, переселяюсь в горные селения… Советский минотавр стал нынче мирным быком…» Какой мерзавец — ни шагу без цели! Все это, конечно, чтобы пошла весть о его болезни, чтобы парализовать негодование (увы, немногих!) за его работу с большевиками, и чтобы пустить слух, что советская власть «эволюционирует». И что же, Роджерс очень защищала его.
Мережк. признавался, что изо всех сил старается о рекламе себе. — «Во вторник обо мне [будет] статья в „Журналь“ — добился таки!»
18/31 января.
Послал письмо Магеровскому — запрос о Моравской Тшебове и на каких условиях приглашают туда.
20 ян./2 февраля.
Посылаю Дроздову «Восьмистишия»: 1. Поэтесса, 2. В гавани, 3. Змея, 4. Листоп[ад], 5. Бред, 6. Ночной путь, 7. Звезды. […]
Дождь, довольно холодно, но трава в соседнем саду уже яркая, воробьи, весна.
Вечером у нас гости […] Провожал Савинкову: «Все таки, если теперь бьет по морде мужика комиссар, то это — свой, Ванька». Конечно, повторяет мужа. А урядник был не Ванька? А Троцкий — «свой»?
21 ян./3 февраля.
Ходил к Шестовым. Дождь, пустые темные рабочие кварталы. Он говорит, что Белый3 ненавидит большевиков, только боится, как и Ремизов4, стать эмигрантом, отрезать себе путь назад в Россию. «Жизнь в России, — говорит Белый — дикий кошмар. Если собрались 5–6 человек родных, близких, страшно все осторожны, — всегда может оказаться предателем кто-нибудь». А на лекциях этот мерзавец говорит, что «все-таки» («не смотря на разрушение материальной культуры») из России воссияет на весь мир несказанный свет.
22 ян. /4 февраля.
От 4 до 6 у Цетлиной «Concert» франц. артистов в пользу Тэффи […] Все артисты одеты сугубо просто — чтобы подчеркнуть домашний характер концерта. Исполнения изумит[ельные] по свободе, простоте, владению собой, дикцией; по естественности и спокойствию — не то, что русские, которые всегда волнуются и всегда «нутром». М-ель Мустангетт похожа на двадцатилетнюю, а ей, говорят, около пятидесяти. Верх совершенства по изяществу и ловкости. Партнер — молодой человек нового типа молодых людей — вульгарного, американского. Танцы — тоже гнусные, американские. Так во всем — Америка затопляет старый свет. Новая цивилизация, плебейская идет. […]
23 ян./5февраля.
Видел во сне поезд, что-то вроде большой теплушки, в которой мы с Верой куда-то едем. И Юлий. Я плакал, чувствуя к нему великую нежность, говорил ему, каково мне без него. Он спокоен, прост и добр. […]
25 янв./7 февраля.
Панихида по Колчаке5. Служил Евлогий. Лиловая мантия, на ней белые с красным полосы. При пении я все время плакал. Связывалось со своим — с Юлием и почему-то с Ефремовым, солнечным утром каким-то, с жизнью нашей семьи, которой конец. И как всегда на панихидах какое-то весеннее чувство. […]
[Из записей Веры Николаевны:]
8 февраля.
[…] Мы опять на распутьи: Чехия, Германия, оккупированная местность или юг Франции. Или, наконец, Париж в 100 фр. квартире? Не знаем, не знаем.
Я на все согласилась бы, лишь бы Ян писал. А он, бедный, еще очень страдает по Юл. Ал. Вчера на панихиде он все время плакал. Он сказал мне, что все время видит во сне Юлия. — «И возмущаюсь, что Юлий умер, а он так кротко утешает меня»…
[Из записей Бунина:]
30 янв. /12 февраля.
Прогулки с Ландау и его сестрой на Vinese, гнусная, узкая уличка, средневековая, вся из бардаков, где комнаты на ночь сдаются прямо с блядью. Палэ-Рояль (очень хорошо и пустынно), обед в ресторане Vefour, основанном в 1760 г., кафе «Ротонда» (стеклянная), где сиживал Тургенев. Вышли на Avenue de I'Opera, большая луна за переулком в быстро бегущих зеленоватых, лиловатых облаках, как старинная картина. Я говорил: «К чорту демократию!», глядя на эту луну. Ландау не понимал — при чем тут демократия?
31 янв./13 февраля.
Завез в «Отель Континенталь» карточку и книгу «M. de S. Franc[isco]» Бенешу. Через два часа — его секретарь с карточкой, — ответный визит. Послал книгу (ту же) Пуанкарэ.
Прошлую ночь опять снился Юлий, даже не он, его, кажется, не было, а его пустая квартира, со связанными и уложенными газетами на столах. Вот уже без остроты вспоминаю о нем. Иногда опять мысль: «а он в Москве, где-то в могиле, сгнил уже!» — и уже не режет, а только тупо давит, только умственно ужасает.
1/14 февраля.
Все едут в Берлин, падают духом, сдаются, разлагаются. Большевики этого ждали… Изумительные люди! Буквально во всем ставка на человеческую низость! Неужели «новая прекрасная жизнь» вся будет заключаться только в подлости и утробе? Да, к этому идет. Истинно мы лишние.
5/18 февраля.
Дождь. Стараюсь работать. И в отчаянии — всё не то!
Опять Юлий во сне. Как он должен был страдать, чувствуя, что уже никогда не увидеться нам! Сколько мы пережили за эти четыре года — так и не расскажешь никогда друг другу пережитого!