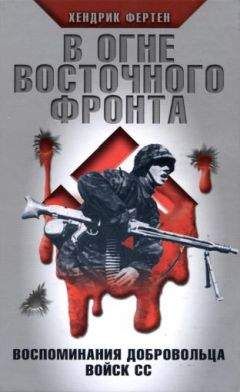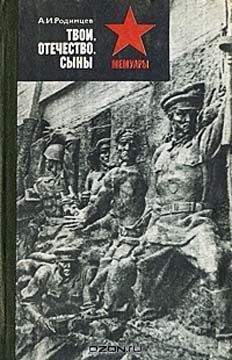– Зачем? – спросил я.
Испанцы открыли «секрет». Дело в том – у республиканцев мало пулеметов. Свою слабость в вооружении они восполняли военной хитростью. Часто меняя позиции, перетаскивая пулеметы с места на место, они обманывали врага. Не успеют корректировщики засечь один пулемет, как рядом строчит другой. Откроют огонь по скале, а «максим» поливает огнем из рощицы. Так республиканцы добивались своей цели: фашисты считали, что на этом участке фронта сосредоточено большое количество пулеметов. Намеченное наступление откладывали, искали новые направления для удара. Если бы они знали, что огонь ведет один пулеметный расчет!
Мои знакомые быстро оборудовали новую огневую точку. Педро лег за щит, поднес пальцы к гашетке. Я лежал рядом и хорошо видел, как поднимались в атаку фашисты. Пехота развернулась в линию, образовала цепь. Раздались звуки барабанной дроби, солдаты взяли винтовки «на руку», а офицеры, шедшие впереди, обнажили шашки. Так, словно на военном параде, марокканцы шли в бой. Это была психическая атака.
Плотной цепью, без единого выстрела они приближались к линии обороны. Расстояние сокращалось. В бинокль уже можно было разглядеть лица солдат. Второй слева, высокого роста марокканец от напряжения закусил губу. На смуглом лице поблескивали белки глаз. Грязно-серая чалма покачивалась в такт шага. Солдат двигался словно марионетка. Зачем он идет? Кто его послал сюда… на смерть?
Четыреста метров… триста. Я не спускал глаз с марокканца. Он становился все больше и больше; оказывается, нос у него с горбинкой и пышные усы, а на шее болтается какой-то талисман. Педро нажал гашетку. Перед колонной вздыбились бурунчики пыли, а потом побежали дальше, влево, вправо.
Высокий марокканец на мгновение остановился, медленно опустился на колено, винтовка упала на землю. Он поднял к солнцу лицо, словно прося объяснить случившееся, потом грузно упал навзничь. Чалма свалилась, с бритой головы, и легкий ветерок покатил ее по полю.
Атака отбита…
Педро откинулся на спину, вытер пот со лба. Из-под расстегнутой рубахи виднелся медальон. «Где-то я видел точно такой же», – кольнула мысль.
Педро, немного говорящий по-русски, придвинулся ко мне и мечтательно заговорил:
– Кончится война, и я снова приду домой. Обязательно схожу в первый же день на корриду. Сынишку Висенте тоже возьму с собой. А жена с дочкой Армандой, она к этому времени подрастет, будут сердиться, что мы ушли одни. Ну, ничего, уговорим их. Моя жена, Виолетта, покладистая. Ты слушаешь меня, камарада? – повернулся ко мне Педро.
– Слушаю, – и я нащупал в кармане медальон убитой в Мадриде женщины с ребенком. Я боялся раскрыть его, взглянуть на фотографию.
– Так вот, – продолжал Педро.-Покладистая она у меня. И работящая. Ты знаешь, она больше всего любит алые маки. До женитьбы я этого не знал и всегда приносил ей розы. А Виолетте они не нравились. Только однажды, когда мы гуляли по выставке цветов, я увидел, как она долго, не отрываясь, стояла возле маков. Стояла как завороженная и потом попросила меня: «Педро, пожалуйста, если захочешь подарить мне цветы, приноси маки». Я обещал. И на нашу свадьбу заказал столько маков, что комната пылала ярким пунцовым цветом.
Вернусь домой, обязательно разведу у себя в саду маки. Пусть Виолетта каждый день ими любуется. Посмотри, Павлито, какая у меня красавица жена, – раскрыл Педро свой медальон.
Я взглянул и отшатнулся. На меня смотрела женщина с улицы Листа.
– Тебе плохо? – испугался Педро.
– Очень, дружище. Мне еще никогда так не было плохо.
Я протянул ему медальон.
Педро побледнел. Крепко сжал мне руки.
– Бомба.
– Сволочи, – он упал лицом на выгоревшую землю. Мы не могли его утешать.
– Всех?
– Мальчик остался жив.
– Бедный Висенте, мы остались сиротами. Мальчик мой, я отомщу этой погани за смерть твоей матери, за сестренку твою, за расстрелянное детство.
Педро бросился к пулемету и нажал гашетку. Он стрелял так долго, что побелели от напряжения пальцы. Стрелял, а на рукоятку падали слезы. Когда кончилась лента, он снова бросился на землю, опустошенный и разбитый.
Весь день молчали марокканцы, а к вечеру пошли в атаку. Я, переводчик и третий испанец, по имени Альберто, залегли с винтовками. Педро со своим напарником легли за пулемет. На этот раз марокканцы уже не шли во весь рост. Они приближались короткими перебежками, какими-то замысловатыми прыжками.
Где-то на левом фланге застучал пулемет. Мы ждали. Наконец, марокканцы подошли так близко, что дальше ждать было опасно. С флангов республиканцы открыли огонь. И только Педро, припавший к пулемету, молчал.
– Педро, давай, – крикнул Альберто.
Но он даже не обернулся.
Марокканцы, почувствовав слабое место на этом участке, поднялись во весь рост. Мой сосед, испанец, не выдержал. Он вскочил, бросился к Педро, схватил его за руки: «Стреляй, тебе говорят». Педро, не поворачиваясь, оттолкнул его.
Противник приближался. И тогда Педро подал голос. Он стрелял короткими очередями. Скупо, точно, без промаха. От неожиданности марокканцы остановились, не зная, куда бежать: назад или вперед. А пулемет работал, не останавливаясь. Десятки трупов остались перед нашим бруствером.
– Зачем медлил? – спросил я вечером Педро.
– Надо беречь патроны. Каждая пуля должна найти убийцу.
Мы сидели и долго молчали. Я боялся, что он попросит рассказать подробно о том, что произошло на улице Листа.
Но услышал от него совсем неожиданное.
– Расскажи, Павлито, о себе, о своей Родине, о доме. Только все. Ведь мы друзья, Павлито?
– Конечно, Педро, – ответил я. – С чего начать? Родился в далеком глухом селе Шарлык, в семье крестьянина-бедняка. Наше село окружала бескрайняя, плодородная степь. Однако мне еще ребенком довелось узнать, что и эти немереные тысячи десятин земли, и озера, и бесчисленные стада коров и овец, и табуны лошадей, и даже колодцы у дорог в степи – чужое, все принадлежало помещикам и кулакам.
– Вот ненасытные, – шумно возмутился Педро. – Что же они вам оставили?
– Собственной земли мой отец не имел, и все его «хозяйство» – старая, чахлая лошаденка, купленная у проезжего барышника. Запрягать свою Подласку отцу почти не приходилось: с весны и до поздней осени он батрачил у богатых мужиков, а они в нашем «иноходце» не нуждались. Уход за Подлаской был поручен мне. Я водил ее в ночное, чистил, купал и холил, и радовался, что в старой кляче иногда пробуждалась молодость и она трусила за табуном рысцой.
– А революцию помнишь? – тронул меня за руку Педро.
– В село наше отзвуки больших событий докатывались медленно и глухо. Помню только шумную, праздничную сходку бедноты. Красный флаг над зданием волости. Пышный красный бант на груди у отца, А потом гражданская война. Свирепствовали белогвардейцы.