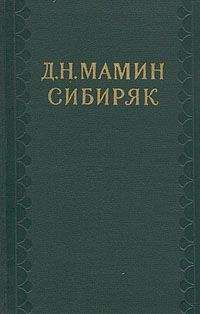Но я забегаю вперед.
Первый момент знакомства с товарищами по квартире как-то у меня выпал из памяти, — и много их было, и слишком пестрая толпа. Как говорится, из-за леса невозможно было разглядеть отдельных деревьев. И пестро, и шумно, и незнакомо… Я присмотрелся к своей квартире только к вечеру, когда общая безличная масса распалась на свои естественные группы. Сначала все делились на старых и новичков, потом — по классам, наконец, — на деревенских и заводских. Новичков было почти половина и, за исключением меня, — всё малыши, поступавшие в низшее отделение. Они так и жались отдельной кучкой, как цыплята, когда их курица бросает для следующего выводка.
Дореформенное духовное уездное училище делилось на три двухгодичных курса — низшее, среднее и высшее отделения. Высшеотделенцы представляли собой своего рода школьную аристократию, и это чувствовалось с первого раза. На нашей квартире их оказалось человек шесть, и они в качестве привилегированных людей заняли маленькую комнату, чтобы не мешаться с ничтожеством из других отделений. Среди них оказались двое заводских, что с первого же раза и послужило для меня связующим звеном, тем более что оба оказались из Демидовских заводов. Они встретили меня самым дружелюбным образом.
— Наш брат мастерко, — говорил рябой мальчик, лет пятнадцати, с какими-то сорочьими глазами, со стоявшими дыбом волосами и болезненно улыбавшимися бескровными губами. — Калены носки, жжены пятки, без подошв сапоги…
Другой, совсем молодой человек, с пробивавшимися черными усиками, заметил, что знает и моего отца и дядю. Ему было лет восемнадцать, и, как я потом узнал, он в каждом отделении проучился по четыре года и теперь приехал в высшее отделение на вторые два года, что в общем составляло двенадцать лет. Первого звали Ермилычем, а второго — Александром Иванычем.
Из деревенских выделялся прежде всего красивый, пухлый мальчик с большими темными глазами, которого Александр Иваныч без церемонии называл «просвирней».
— Много летом-то просвир напекла, просвирня?
Обиженный белел от злости, но ограничивался одним ворчанием, причем как-то забавно отдувал свои пухлые щеки и отпячивал губы. По фамилии — Илья Введенский. Как оказалось, училищный инспектор уже назначил его, как лучшего ученика, старшим по квартире, что имело громадное значение в жизни нашей маленькой общины.
Из деревенских стоит еще упомянуть о небольшого роста худеньком мальчике с улыбавшимися постоянно темными глазками. Товарищи по классу называли его «Хвостом», на что он нимало не обижался, потому что это была переходившая из поколения в поколение кличка всех Павлов Иванычей: Павел Иваныч Хвост, и только. Это был очень милый и крайне добродушный мальчик, который вскоре с квартиры попал в бурсу, потому что у него умер отец и пришлось поступить в так называемые казеннокоштные, как была перекрещена alma mater бурса.
Остается сказать несколько слов об обстановке нашей квартиры, или, вернее, об ее полном отсутствии. В большой комнате стояли небольшой деревянный стол, деревянная скамейка и несколько табуретов; в маленькой комнате — маленький стол, а скамейка заменялась ученическими сундучками.
Александр Иваныч сразу принял меня под свое покровительство и предложил сходить вместе на рынок, чтобы купить мне сундук.
— Мы купим наш тагильский сундук, а не невьянский, — объяснял он в качестве патриота. — Знаешь, такие зеленые, и чтобы замок был со звоном…
Он оказался очень практическим человеком и прочитал мне целую лекцию о достоинствах и недостатках сундуков и теорию нормального сундука. На рынке он оказался чуть не своим человеком и пальцами указывал мне лавки, где и что можно было купить и где бессовестно надувают доверчивых покупателей. Когда я указал в свою очередь на лавку, где всегда покупал дедушка Семен Степаныч, — Александр Иваныч пришел в негодование и заявил:
— Да этот старичонка — первый мошенник в городе. У него для веса и пряники с песком.
Я был серьезно огорчен за доверчивость дедушки, — единственный честный торговец в Екатеринбурге оказался мошенником.
IIМы несколько дней еще не ходили в классы, и я успел познакомиться с жизнью нашей квартиры. Мы поднимались в семь часов утра и получали по ломтю белого хлеба. Чаю не полагалось, и исключение представлял один я. Из самовара хозяйки я заваривал свой чайничек и пил один, что было очень неудобно и очень меня стесняло, потому что все остальные съедали свою порцию всухомятку. Раздавала хлеб сама Татьяна Ивановна, очень добрая и ворчливая старушка, причем выяснилось, что «любимчикам» она отдавала самые вкусные куски, именно — горбушки, а нелюбимчикам оставалось только завидовать. Впрочем, старушка руководствовалась, главным образом, отсутствием дурных поступков, и поэтому наш квартирный старший, Введенский, проявлявший строптивость и легкомыслие, получал горбушки реже, чем его подчиненные.
— А я ей покажу, старой карге! — ворчал он, придумывая разные школьные каверзы.
Обед был в два часа. Мы гурьбой отправлялись в маленький флигелек, где всецело царила Фаина Ивановна. Все усаживались за один стол. На шестнадцать человек подавались две чашки горячего — щи, лапша, похлебка. Это было очень немного, но повторения не полагалось. Вторым блюдом был картофель или каша, а иногда молоко. Во всяком случае, из-за обеда все выходили полуголодными и захватывали с собой корочки черного хлеба, который потом поджаривали где-нибудь в душнике печки, конечно, пополам с сажей. Особенно плохо доставалось по постным дням, когда на столе появлялись, главным образом, горошница, постные щи из крупы и похлебка из вяленой рыбы или сухих грибов. Вечером, в восемь часов, полагался ужин, уменьшенный по части питательности, сравнительно с обедом, на несколько градусов. У Фаины Ивановны все было рассчитано с математической точностью, и мы голодали порядочно. Мне, после ямщичьих обедов на постоялых дворах, в первый раз приходилось «есть на артели». У всех — аппетит волчий, но никто не торопился с своей ложкой, и наблюдалась известная очередь. И голодали все одинаково… Всего удивительнее было то, что, когда в воскресенье мы купили с Ермилычем бутылку молока и Татьяна Ивановна узнала об этом, — она ворвалась к нам в комнату вся в слезах и с самыми горькими словами:
— Значит, вы голодны, ежели покупаете молоко?! Значит, я вас кормлю плохо?! Вот я до чего дожила… Пятнадцать лет держу квартиру, а такого сраму не видывала. Знаю, как вы и в обжорном ряду проедались… Все, все скажу инспектору!..
Последняя угроза являлась заключением всех позднейших речей Татьяны Ивановны, но она никогда не приводилась, конечно, в исполнение.