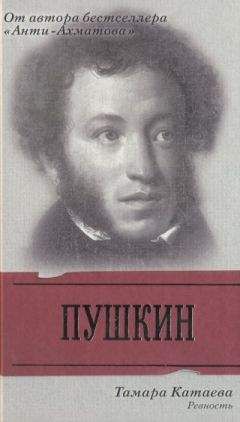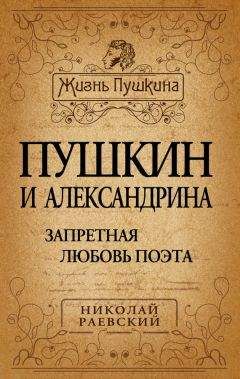Пушкин отнесся к суете на игральном столе с мрачной серьезностью, с пафосной щепетильностью. Оно, может, и понятно — тот, кто сел за карточный стол и проигрался в пух, — он не может весело расхохотаться над уморительными условностями, претендующими на содержимое его таким серьезным и общественно значимым трудом наполненного кошелька. Не садиться с шулерами — путь, может быть, и скучноватый, и осмотрительный, и дающий возможность — насколько? Насколько номинально азартные игры фатальнее и азартнее других, вроде бы не игрушечных обстоятельств? Кто и при каких обстоятельствах может определенно быть господином своей судьбы, держать ее в своих надежных руках и не подставляться никаким слепым превратностям?
Пушкин был честен в игре: светская чехарда не была тем полем, где он мог выходить, по-шулерски укрепленный своими талантами, всенародным поклонением и любовью, божественным даром и гением, — он не бился с Гоголем, не отрабатывал запрещенные приемчики на Баратынском или Жуковском, на Вяземском. Там, в литературе, для него была не игра, а жизнь, где он не обижал слабых и не хотел мериться силой с равными, поскольку главного игрового момента — победы, приза, удачи — здесь не предусматривалось. А в светской жизни он выходил играть, распечатав новую колоду и не претендуя на форы. Такой же, как все, Пушкин. Чем лучше? Это он понимал прекрасно — ничем, оскорбился бы, если б кто-то заподозрил его в желании получить скидки за свои таланты. Светскому человеку их приходилось скрывать, любую победу демонстрировать, прежде всего убедившись, что шансы на этом поле у него были равными со всеми другими игроками. Забывшись, можно получить гонорар, купюру под резинку чулка. Пушкин проявлял толстокожесть начальника канцелярии. Ничего не знаю, извольте объясниться. Несостоявшуюся болдинскую осень пробегал, расширяя ноздри и чуть не до удара себя самого доведя.
А всего результата — что свояченицу замуж выдал. Пушкинолюбам задачку подкинул: что и что бы было, как Пушкин бы Дантеса застрелил? За что и как — судите, если судьями себя считаете.
Ушел ли бы в монастырь? Не смешите. Смиренья в нем было не больше, чем у изъязвленного, израненного, обреченного и откормленного быка, испанской забавы. Кого любил, перед кем был готов смириться?
Убийством это считали все. Положим, дуэль. Каждому поровну. Но ведь Дантес своей половины шансов не искал? Стрелялись многие. Но ведь не на таких условиях? До таких и Дантес доходить не хотел. Он подавал Пушкину знаки: я играю, я кричу: «Сдаюсь!» — ведь это не шутка, Катишь под венец вести, Пушкину в доме свободней, а мне-то жизнь с нею жить?
Состряпались письма. Уж не понятней ль понятного: остановись. Ты уже никогда не будешь незапятнанным мужем. Ты смоешь наружный, тобой же замешенный, не остановленный тобою вовремя позор тяжелым поединком: чем тяжелей условья, тем очевидней твоя вина плохо смотревшего мужа.
В свою последнюю в жизни пору, на болдинские подвиги предназначенную, Пушкин написал три стихотворения и неслыханное — не по низости ли? для чего ж оно? — письмо к Бенкендорфу. Нашел себе корреспондента. Что это за манера, за прием — писать к шефу жандармов? Много ль у того в архиве писем от мужей? «Сообщить о том, что произошло в моем семействе?» Разве кто спросил? Не глава ль ты своему семейству без смотрителей? «Граф, позвольте мне сообщить…» Па-азвольте!
МАСКА: Как век наш неустроен… Комфорта много, но как зыбок! Для самых простых нужд: обогрева, пропитания, поездки хоть и недалече — везде нужны труды, обученные люди, зависимость, изобретают то для того, то для сего машины, да скоро ль они так войдут в жизнь, чтоб на них можно было б рассчитывать? Так и нужен везде лакей. Опил, объел, говорит по-французски… а без него никак. С ним же — чистая посуда, натертые безделушки, карету кликнуть, подать трубку. Устроиться можно. Приятно думать у лежанки: Пушкину бы и залечь за рукописями, писал он утром, не вставая, какие утра бывают по поздней осени! То все заснежится, засверкает, что те зима, льдом все лужи приберет, то раскиснет и затеплится, как заново травой пойдет, то захмурится, загрозится, заклонит деревья к земле, понатянет тучи! А ты все у лежанки, и бумагу тебе несут, и кофе. И жену можно через три года с двумя новыми детьми в Москву везти, кто тебя на дуэли позовет?
Ох, не хотела Наташа в деревню! Нравиться другим — как ни объясняй, что это — потому что в диковинку, потому что хочется поиграться, что маменька не баловала, а все ж на минутку задуматься, так и поймешь жену молодую, которую муж другому не учит…
ДИПЛОМАТ: Пушкин был противу правил. Он ПОПРОСИЛ Дантеса назначить — найти, обратиться с предложением, изложить суть дела, уговорить — предоставить ему секунданта. Попросил дерзким, небрежным, будто б о деле решенном тоном, боясь навязываться с таким бестолковым, тяжелым, МОКРЫМ делом своим друзьям или — знакомым. От ЗНАКОМЫХ боялся услышать отказ. Его тема — «Египетские ночи» — во сколько себя оценит Клеопатра и какую цену не побоится назначить. Клеопатровой пресыщенностью и пушкинским застарелым неврозом цена определилась одна: жизнь. Пушкину надо было остановить грустный взор на каком-то юном почитателе, который рискнет за него тем, защищая, что Пушкин оказался под дулом пистолета: общественным положением. Он к тому времени уже был в чиновном — мелкочиновном, в любом случае чиновном, относящемся к николаевской России мире, не мог не бояться чиновьичьих катаклизмов. Дуэль — всегда событие в послужном списке чиновника.
К Дантесу отнесся оскорбительно, унизив при этом, как водится в таких случаях, себя — желая обмануть его как иностранца, как не знающего и будто бы не могущего узнать обычаи. Дантес, быть может, и испугался — как испугался бы всякий, видя, что имеет дело с решившим идти до конца — и не в том деле, которому он бы сам хотел иметь конец. Но он не потерял голову, он не забылся, как Пушкин. Ему говорили о каких-то специфических русских обычаях — он не пустился в их изучение, он пожал плечами: кажется, мы играем во французские игры, зачем добавлять азиатских пряностей, будто бы удивительно улучшающих вкус большим опытом отшлифованной cusine? Ему не было нужды в экспериментах. Дантес с раздражением разоблачающего попытку одурачить осознал главное: они бы играли с Пушкиным в разные игры. Он — в довольно рискованный, социального и правового значения феномен, довольно сложный в организации, с большими ставками на выигрыш и проигрыш — дуэль, а Пушкин — тот занимался бы каким-то экстремальным спортом. Адреналин, отработанная меткость, психологическая подготовка. Удалой боярин-молодец выходит мышцы размять воскресным днем на Москву-реку, а то и убить метким молодецким ударом какого-нибудь знаменитого, — или безымянного, кто ими будет заниматься — борца — честь, молодецкая потеха, здоровье! Уж вы предоставьте мне секундантов, да всего, что там полагается, а я, откушав в «Вольфе и Беранже» пирожных, по морозцу и примусь… за отстрел…