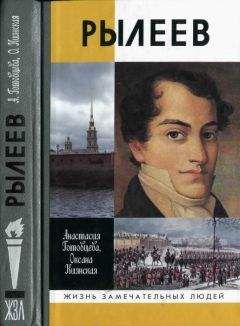Между тем в архиве случайно сохранилось письмо Натальи Михайловны сестре Анастасии, оставшейся в деревне. Письмо не датировано, однако в нем упоминаются факты, позволяющие определить время его написания достаточно точно: «Еще, милая сестрица, уведомляю Вас: Сухазанет Петр Онуфиревич произведен в полковники, барон Густав Романович переведен тем же чином в гвардию, в адъютанты, в Петербурге он теперь». Сухозанет, бывший командир Рылеева по конно-артиллерийской роте, получил чин подполковника 15 сентября 1819 года; другой его бывший сослуживец поручик Густав Унгерн-Штернберг был переведен «лейб-гвардии в конную артиллерию с назначением адъютантом к генерал-майору Козену» 8 сентября того же года{146}. Таким образом, письмо написано в конце сентября — октябре, через несколько месяцев после свадьбы.
Жена поэта рассказывает сестре о своих первых столичных впечатлениях: «И еще скажу Вам, сестрица, какие тут добрые дамы. Я ни в одной не заметила, чтоб были насмешницы, и так просто, откровенно все обращаются». Впрочем, написано письмо не только ради наивного рассказа о «дамах». Главная его тема — семейная жизнь Натальи Рылеевой. Начинается письмо большим и грустным стихотворением известного поэта Михаила Милонова «К сестре моей»:
Мечты сокрылися отрадны —
Их грозный опыт отогнал.
Повеял ветр осенний хладный
И цвет весны моей увял…
«Я Вам, милая сестрица, выписала эти стишки из книжки, они много похожи на мою с Вами разлуку. Когда, Бог даст мне, увижусь с Вами?» — комментирует Наталья Рылеева милоновский текст. «Офицеры сюда почти каждый день ходят, а мне так и так, когда там сижу, очень грустно сделается, и уйду в свою половину, и лежу или что-нибудь делаю. Милый друг мой сестрица! Ради Бога, пишите мне письма чаще и обо всём уведомляйте», — продолжает жена поэта свой невеселый рассказ{147}.
Письмо это красноречиво свидетельствует: интересы Рылеева были чужды вчерашней провинциальной барышне практически с самого начала их семейной жизни. Рядом с мужем и его друзьями ей было одиноко и скучно.
Мемуары современников полны описаний внешности Рылеева, его мнений, поступков, стихов. Однако о его жене упоминается крайне редко, вскользь. В глазах друзей и знакомых поэта она не была ни женой-единомышленницей, подобно Екатерине Трубецкой, ни женой-другом, подобно Александре Муравьевой, ни даже женой несчастной, романтической, покинутой ради «дела», подобно Марии Волконской. Современники вспоминали Наталью Рылееву то как женщину «нелюдимую», «уклонявшуюся от знакомств», то как «добрую, любезную» хозяйку дома, которая «была внимательна ко всем» и «скромным своим обращением» внушала «общее к себе уважение»{148}. Однако дальше общих фраз рассказ о ней не идет, никаких ее слов и поступков мемуаристы не припоминают. По-видимому, как личность она была крайне бесцветна, ничего из себя не представляла.
Естественно, что о конспиративной деятельности Рылеева Наталья Михайловна не ведала. Полной неожиданностью стали для нее события 14 декабря и последовавший затем арест мужа. Воспоминания Николая Бестужева содержат знаменитую сцену прощания супругов накануне решающих событий: «Жена его выбежала к нам навстречу, и когда я хотел с нею поздороваться, она схватила мою руку и, заливаясь слезами, едва могла выговорить:
— Оставьте мне моего мужа, не уводите его — я знаю, что он идет на погибель…
Рылеев… старался успокоить ее, что он возвратится скоро, что в намерениях его нет ничего опасного. Она не слушала нас, но в это время дикий, горестный и испытующий взгляд больших черных ее глаз попеременно устремлялся на обоих — я не мог вынести этого взгляда и смутился. Рылеев приметно был в замешательстве, вдруг она отчаянным голосом вскрикнула:
— Настенька, проси отца за себя и за меня!
Маленькая девочка выбежала, рыдая, обняла колени отца, а мать почти без чувств упала к нему на грудь. Рылеев положил ее на диван, вырвался из ее и дочерних объятий и убежал»{149}.
Трудно судить, было ли так на самом деле или склонный к мелодраматическим эффектам Бестужев и в данном случае приукрасил реальность.
* * *
На следующий день после повешения заговорщиков императрица Мария Федоровна, жившая тогда в Москве и еще не получившая сведений о совершении казни, спрашивала князя Александра Голицына: «Вы писали, что жена Рылеева интересна; что теперь с этой несчастной?»{150} Из этого письма следует, что в 1826 году Наталья Михайловна, дотоле никому, в сущности, не нужная, превратилась в персону, до которой было дело даже особам царствующей фамилии.
Это превращение было обусловлено прежде всего тяжестью обстоятельств, в которых очутилась Рылеева. Муж, арестованный за участие в подготовке мятежа и через полгода казненный; одиночество, скрашиваемое только присутствием подруги покойной свекрови Прасковьи Васильевны Устиновой, бабушки мемуариста и историка Дмитрия Кропотова; бесплодные попытки добиться свидания с мужем и разобраться в его запутанных финансовых делах — всё это и сделало Рылееву «интересной».
Однако очень многие родственники заговорщиков оказались в 1826 году в крайне тяжелой житейской ситуации, но далеко не все они могли похвастаться столь явно выраженным высочайшим интересом к себе.
Из процитированного выше письма императрицы Марии Федоровны следует: именно князь Голицын впервые сообщил ей, что жена Рылеева заслуживает внимания. Голицын до 1824 года был министром духовных дел и народного просвещения, а затем главноуправляющим почтовым ведомством. Некогда всесильный временщик при Александре I, он сумел завоевать и доверие Николая I, был членом Следственной комиссии по делу о злоумышленных тайных обществах, постоянно общался с императором и его семьей.
С Рылеевым Голицын был, видимо, хорошо знаком: в 1820 году знаменитая рылеевская сатира «К временщику» помогла министру устоять в противоборстве с другим временщиком, графом Аракчеевым. Отзывы современников рисуют Голицына человеком мягким, незлобивым, всегда помнившим добро. Рылееву он, конечно, помочь ничем не мог, однако для его жены сумел сделать многое.
Важным для Рылеевой оказалось 19 декабря 1825 года — в этот день она, удрученная арестом мужа, отправила на высочайшее имя прошение: «Всемилостивейший государь! Я женщина, и не могу ни знать, ни судить, в чем именно и в какой степени виновен муж мой; знаю только то и убеждена в сердце, что восприемлющим образ Божий на земли, паче всего, свойственно милосердие. Государь! убитая горестию, с единственною малолетною дочерью припадаю к августейшим стопам твоим; но, не дерзая просить о помиловании, молю об одном только: повелите начальству объявить мне, где он, и допускать меня к нему, если он здесь. О, государь! коль теплыя моления вознесу я тогда ко Всемогущему о долголетнем и благополучном твоем царствовании»{151}.