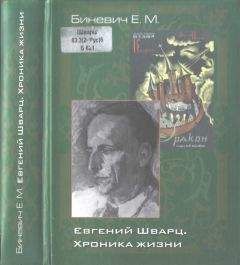Он обижался и даже сердился, если видел из окна, как я проходил мимо и не свернул к его калитке.
— Вот сволочь! — говорил он. — Шел утром на почту и не заглянул.
— Я думал, ты работаешь, боялся помешать.
— Скажите пожалуйста! «Помешать»! Ты же знаешь, что я обожаю, когда мне мешают.
Говорилось это отчасти для красного словца, отчасти — по инерции, потому что было время, когда он действительно «обожал» помехи… Но была тут и правда — я и в самом деле был нужен ему утром, чтобы выслушать из его уст новые страницы «ме» или последний, двадцать четвертый, вариант третьего действия его новой пьесы… Это ведь тоже было работой. Читая кому‑нибудь рукопись, он проверял себя и на слух, и на глаз (то есть следил и за точностью фразы, и за реакцией слушателя).
Он был мастером в самом высоком, в самом прекрасном смысле слова. Если в молодости он мог написать пьесу за две, за три недели, то на склоне дней на такую же трехактную пьесу у него уходили месяцы, а иногда и годы…
Сколько вариантов пьесы «Два клена» или сценария «Дон Кихот» выслушал я в его чтении!
При этом он часто говорил:
— Надо делать все, о чем тебя попросят, не отказываться ни от чего. И стараться, чтобы все получалось хорошо и даже отлично.
Он не афишировал эти свои «высказывания», нигде об этом не писал и не заявлял публично, но ведь по существу это было то самое, о чем так часто и громко говорил В. В. Маяковский. Евгений Львович писал не только сказки и рассказы, не только пьесы и сценарии, но и буквально все, о чем его просили, — и обозрения для Аркадия Райкина, и подписи под журнальными картинками, и куплеты, и стихи, и статьи, и цирковые репризы, и балетные либретто, и так называемые внутренние рецензии.
— Пишу все, кроме доносов, — говорил он.
Если не ошибаюсь, он был первым среди ленинградских литераторов, кто откликнулся пером на фашистское нашествие: уже в конце июня или начале июля 1941 года он работал в соавторстве с М. М. Зощенко над сатирической пьесой — памфлетом «Под липами Берлина».
Упомянув о Зощенко, не могу не сказать о том, как относился к нему Евгений Львович. Он не был близок с Михаилом Михайловичем (очень близких друзей у Зощенко, по — моему, и не было), но очень любил его — и как писателя и как человека. Привлекало его в Зощенко то же, что и в Чехове — душевная чистота, мужество, прямолинейность, неподкупность, рыцарское отношение к женщине… Впрочем, обо всем этом лучше, чем кто‑нибудь другой, рассказал в своих «ме» сам Евгений Львович. Будем надеяться, что рано или поздно (и, дай бог, не слишком поздно) книга его воспоминаний увидит свет. Там мы прочтем и о Зощенко.
…Между прочим, Зощенко был, пожалуй, единственный человек, о ком Евгений Львович никогда не говорил в иронических тонах. Он очень любил Самуила Яковлевича Маршака, относился к нему с сыновней преданностью и почтительностью, но, зная некоторые человеческие слабости нашего друга и учителя, иногда позволял отзываться о нем (конечно, с друзьями, в очень своей компании) с легкой насмешливостью. Так же насмешливо, иронизируя, «подкусывая», говорил он и о других близких ему людях, в том числе и обо мне.
Мы не обижались, понимали, что говорится это по — дружески, любя, но временами, когда Шварц терял чувство меры (а это с ним бывало), такая однотонность приедалась и даже вызывала раздражение.
Как‑то летом мы гуляли с ним и с моей будущей женой в комаровском лесу. Евгений Львович был, что называется, в ударе, шутил, каламбурил, посмеивался над вещами, над которыми, может быть, смеяться не следовало. В запале острословия он пошутил не очень удачно, даже грубовато, обидел меня. И рассердившись, я сказал ему:
— А ты знаешь, что говорил о таких, как ты, Аристотель? Он говорил: «Видеть во всем одну только смешную сторону — признак мелкой души».
Евгений Львович смеяться и шутить не перестал, но что‑то его задело.
— Как? Как? — переспросил он минуту спустя. — Повтори! Что там сказал о таких, как я, твой Сократ?
Отшутиться, однако, в этом случае он не сумел, а скорее всего, и не захотел.
С тех пор у нас так повелось: если Шварц в моем присутствии не очень удачно или не к месту острил, я начинал тихонечко напевать или насвистывать:
Аристотель мудрый,
Древний филосОф,
Продал панталоны и т. д.
Ухмыльнувшись, он принимал мой сигнал, и если считал этот сигнал уместным и справедливым, или менял тему разговора, или делался чуть — чуть серьезнее.
…Нет, конечно, его остроумие не было «признаком мелкой души». Аристотеля я тогда, в лесу, помянул просто так, от большой обиды…
Не могу представить, что стало бы с Евгением Львовичем, во что бы он превратился, если бы вдруг утратил свой великий дар — то, что англичане в старину называли четвертой христианской добродетелью: юмор?!
Да, без юмора невозможно и вообразить себе Евгения Львовича. И все‑таки, честно говоря, я больше всего любил его как раз в те редкие минуты, когда он говорил совершенно серьезно, без попыток во что бы то ни стало шутить, без тех милых парадоксов и неповторимых «шварцизмов», которыми блистала его живая речь и будут долго блистать его книги и пьесы.
Впрочем, последняя, лучшая книга Шварца именно тем, на мой взгляд, и хороша, что в ней соблюдена мера — юмора в ней ровно столько, сколько нужно, чтобы радость общения с мастером была полной. Сознательно или бессознательно, а Евгений Львович и здесь пошел путем Чехова. Ведь и тот начинал с юмористики, а на склоне дней написал «Архиерея», рассказ, где улыбку читателя вызывают только слова «не ндравится мне» в устах старого монаха.
Музыку он любил, но как‑то умел обходиться без нее, в филармонии и на других концертах на моей памяти не бывал, думаю — из‑за Екатерины Ивановны, которая выезжала (да и то не всегда) только на первые спектакли пьес Евгения Львовича.
В Комарове одну зиму Евгений Львович часто ходил по вечерам к Владимиру Ивановичу Смирнову, нашему прославленному математику и талантливейшему любителю — музыканту. Эти музыкальные вечера в «Академяках» доставляли Шварцу много радости, хотя и тут он не мог удержаться, чтобы не сострить, не побуффонить, не высмеять и музыкантов, и слушателей, и самого себя.
Помню его рассказ о том, как накануне вечером был он у В. И. Смирнова и как хозяин и гость его — тоже почтенный академик — играли в четыре руки что‑то редкостное, очень серьезное и очень по — немецки основательное, часа на полтора — два. Причем Евгений Львович был единственным слушателем этого изысканного фортепьянного концерта.
— Сижу, слушаю, гляжу с умилением на их черные шапочки и чувствую, что музыка меня укачивает. Глаза слипаются. Вот — вот провалюсь куда‑то. И вдруг: бам — ба — ра — бам — бамм! Четыре аккорда! Гром! И еще раз: бамм! бамм! бамм! Встряхиваюсь, открываю глаза, ничего не понимаю: где я, что, почему? И опять мерно покачиваются шапочки, и опять мерно рокочет музыка. Опять голова моя сползает на грудь, и вдруг опять: бам — ба — ра — бам — бамм! Тьфу, черт! Стыдно и страшно вспомнить. Это называется: сладкая пытка!..