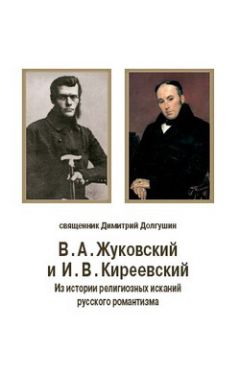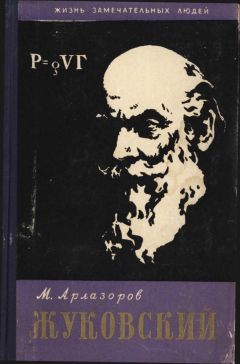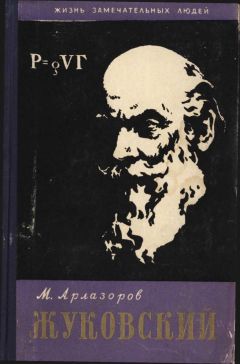Ознакомительная версия.
Внимание молодого Киреевского тоже было приковано к этой проблематике. Например, в одном из писем к С. А. Соболевскому он сообщает как о важнейшем событии: «Вот важное: все материалисты московские верят теперь главному догмату Христианской религии. Совершилось чудо очевидно. Ты верно также поверишь, ибо твое единое, целое, совместно теперь с Троицей» (цит. по [Рябий, 10]). Во время путешествия в чужие края Киреевского более всего заинтересовало современное религиозно-философское движение, и он даже хотел писать статью о религиозном направлении умов в Германии для «Литературной Газеты» А. А. Дельвига[72].
Характерно, что во время пребывания в Берлине внимание Киреевского привлекла фигура Ф. Шлейермахера. Киреевский не только усердно посещал лекции этого теолога-романтика, но и тщательно штудировал его «Христианскую веру». Пересказывая в письме матери ([Киреевский, I, 31–33]) лекцию Шлейермахера о Воскресении Христовом, которую тот читал 3(15) марта 1830 г., Киреевский пишет, что Воскресение Христово – «главный момент христианства», и что достигнуть туда можно, только «поднявшись на вершину своей веры, туда, где вера уже начинает граничить с философией».
Из этих слов видно, между прочим, каким Киреевскому представлялось тогда отношение религии к философии. Либо философия – высшая ступень над верой, либо вера и философия соприкасаются своими вершинами, – в любом случае именно в точке пересечения философии и веры высказывается весь человек. Эта мысль показывает, что все нараставшее в то время в романтизме стремление осуществить синтез религии и философии, найти универсальное знание, захватило и Киреевского. Он выдвигает программу соединения веры и философии «в их противоположности и общности, следовательно, в их целостном, полном бытии». Таким образом, религия и философия у молодого Киреевского отнюдь не противопоставляются друг другу. Напротив, он уверен, что философское искание приводит к вере [VIII].
Вольнодумные, или, по выражению А. И. Кошелева, «школьные и дикие», мысли появились у Киреевского в ранней молодости, конечно, под влиянием А. А. Елагина. Отчим Киреевского, знаток Канта и Шеллинга, был авторитетом для него самого и его друзей – в частности, для H. М. Рожалина, но, очевидно, и для Кошелева тоже. А. А. Елагин отрицал индивидуальное бессмертие – это видно еще из его переписки с Г. С. Батеньковым 1810-х гг., и в 1820-х гг. он придерживался того же убеждения (см. выше, с. 48–49). В этом смысле он, вероятно, влиял на H. М. Рожалина. А. П. Елагина старалась оградить детей от такого рода «софизмов». В ее письме мужу от 8 июня 1826 г. читаем довольно резкую отповедь его пантеистическим философствованиям [Ястребинецкая, 114].
Вообще, источником религиозности в семье Елагиных-Киреевских была именно мать – Авдотья Петровна (а за ней стоял рано скончавшийся, но оказавший на нее решительное в этом смысле влияние В. И. Киреевский)[73]. Свои письма детям она обычно заканчивает благословением и молитвой за них. Благодаря Авдотье Петровне в семье существовали добрые христианские обычаи. Например, Великим постом в салоне Елагиной были «христианские чтения» духовной литературы [Канторович, 173]. Совершались и паломничества к святыням. Так, в мае 1830 г., когда оба брата Киреевских были в чужих краях, Авдотья Петровна с дочерью Машей, М. П. Погодиным, H. М. Языковым, А. О. Армфельдом, А. П. Петерсоном совершили «пешее путешествие» в Свято-Троицкую Сергиеву Лавру, к преподобному Сергию (H. М. Языков описал его в стихах, написанных им 11 мая 1830 г. для М. В. Киреевской) [Барсуков, III, 61–65]. Такие же путешествия совершались и позже. Провожая в чужие края H. М. Рожалина, Авдотья Петровна надела на него золотой нательный крест с мощами, а в письмах своих не уставала писать ему – неверующему – о бессмертии души [Рожалин, 600].
В то же время, в семье в 1810-1820-х гг., кажется, не соблюдались посты, и тот же М. П. Погодин испытывал неудобство, когда Великим Постом у Елагиных его угощали скоромной пищей («пресовестно было отказываться», – пишет он). И. В. Киреевский не носил нательного креста. В результате, Н. П. Арбенева, став женой Киреевского, была неприятно поражена тем, что ее муж не соблюдает церковных обычаев. Таким образом, можно заключить, что вера в 1834 г. у Киреевского, конечно, не отсутствовала, но была, скорее всего, тем, что он позже с некоторой иронией называл «философским христианством». Атмосфера жизни в семье Елагиных-Киреевских определясь прежде всего литературой – недаром Кс. Полевой называет семейство Киреевских «литературным». Вполне естественно в то время в устах И. В. Киреевского звучит признание, что ежеутреннее чтение стихов H. М. Языкова настраивает его «на целый день, как другого молитва или рюмка водки» [Киреевский П. В. 1935, 36].
Иное устроение постепенно сложилось в собственной семье И. В. Киреевского. О нем можно судить, например, по сохранившейся семейной переписке. В одном из писем Натальи Петровны мужу (от 5 июня 1850 г.) мы находим, как ранее в переписке Жуковского, особую, религиозную концепцию брака. Письмо связано со следующим происшествием. Весной 1850 г. Киреевские начали переделку своего дома в Долбине. В процессе ремонта обнаружилось, что потолки совсем прогнили и могли в любой момент упасть на жильцов. Мысль об опасности, которая им угрожала, и об избавлении от нее наполнила душу Натальи Петровны благодарностью Богу, вразумившему начать ремонт, и в письме от 5 июня она пишет:
И все Господь! всех нас и во всем охраняет, как не благодарить, как не чувствовать Его великое Милосердие и Любовь отеческую к нам! Господи! есть ли <бы> Его благостию вселилась в наши сердца любовь к Нему, которую Он от нас просит! говоря: «Сыне мой, даждь ми сердце твое!» Боже! О! есть ли бы с помощию Его святой Милости, мы могли достичь единственно желаемого счастия – соблюсти заповеди Божии – и тем доказать Господу любовь нашу! «Имей заповеди Моя и соблюдаяй я – той есть любяй Мя». Друг мой! Ванюша мой! помоги мне в этой жизни, в исполнении святых заповедей Господа нашего Иисуса Христа! Они тяжки не суть, но мы соединены в доме Божием, и вместе сердце с сердцем вдвоем, – успешно можем совершить этот сладчайший путь Господень, – при Его святой помощи!
Помоги мне, или лучше скажу тебе, ты глава и душа моя, веди меня по нем, а я буду твоею помощницею, при малейшей усталости – любовию к тебе в Господе! поддержу тебя. Будем искать Царствия Небесного и Правды Его – и быть может спасение детей и наше (как единственная моя молитва) приложится нам. Святые старцы будут нашею опорою, их совет и св. молитва будут нашим якорем спасения! Душа моя! Извини меня, увлекаюсь по– требностию души слиться с тобою одною мыслию и желанием, помолись обо мне Пресвятой Богородице![74] [Киреевская – Киреевскому, л. 7–7 об.].
Здесь целая программа, законченный взгляд на назначение и смысл семейной жизни. Обратим особое внимание на упоминание о «святых старцах». Духовное устроение семьи И. В. Киреевского и его собственную внутреннюю жизнь 1840-1850-х годов невозможно понять, не учитывая его отношения к старцам, в частности, к старцам Оптиной пустыни. К рассмотрению этих отношений мы и переходим в следующем разделе.
Глава 7. Отношения В. А. Жуковского и И. В. Киреевского с духовными лицами
Наиболее интересны для нас отношения Киреевского и Жуковского не просто с лицами, облеченными священным саном, но с теми, кто был преемником и выразителем церковного духовного предания, попросту говоря, со святыми людьми. Еще священник Сергий Мансуров предложил рассматривать историю Церкви как историю святости [Мансуров, 9-56], и с этой точки зрения время жизни Киреевского и Жуковского принадлежит одной из замечательных эпох русской церковной истории. Как ни странно, она почти полностью совпадает с периодом синодального управления, которое, казалось бы, не способствовало духовному расцвету.
Духовные писатели XIX–XX вв. сравнивали свою эпоху с осенью или закатом; но именно осенью распускаются самые красивые цветы, именно во время заката становится особенно прекрасным небо… [Игнатия (Петровская)].
При общем, для всех видимом и осязательном упадке веры и благочестия, и в наше время было много великих сввятителей, много достойных иереев, замечательных и даром слова, и высокою жизнью, много отшельников и иноков, ревновавших идти путем древних преподобных отцов. Достойно внимания, что таких великих подвижников веры в 19-е столетие в России было не менее, нежели в другие века, по видимому более благоприятствовавшие монашеству, и даже не знаем, во все ли времена в отечестве нашем жили почти одновременно такие светила монашества, каковы были в наши дни… (иеромонах Климент (Зедергольм)) [Антоний Оптинский, 4–5].
В конце XVIII-начале XIX вв. произошло возрождение русского монашества, и это имело влияние не только на монастырскую жизнь. Монастырь в это время опять, как некогда в Древней Руси, стал питательным полем русской культуры [IX]. Это возрождение началось с деятельности преподобного Паисия (Величковского)[75].
Ознакомительная версия.