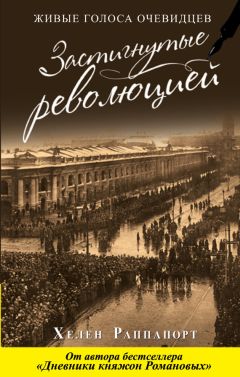В течение всей ночи с 23 на 24 февраля вспыхивали эпизодические перестрелки; несмотря на это, как ни удивительно, общественная жизнь столицы продолжалась. Александринский театр в тот вечер был полон, давали «Ревизора» Гоголя. Публика «весьма живо откликалась на сатиру на политические изъяны середины девятнадцатого века». Мало кто, казалось, был готов поверить, что «в этот момент в столице наяву разворачивалась настоящая драма»{204}. Лейтон Роджерс и несколько его коллег из Петроградского филиала Государственного муниципального банка Нью-Йорка направлялись на ужин в “Cafe de la Grave”, расположенное на цокольном этаже одного из зданий на Невском проспекте. По пути они впервые встретились с казаками, отряд которых промчался мимо них «по тротуару на полном скаку… Они кричали, как сумасшедшие, карабины подпрыгивали у них на спинах, шашки били по лошадям», «они размахивали стальными пиками». Роджерс со своими друзьями, взглянув на это, побежал сломя голову. После ужина они возвращались домой уже в темноте, атмосфера в городе «была накалена до предела». Отряды конных казаков все еще патрулировали город; они выстроились вдоль всего Невского проспекта, «вынуждая пешеходов идти посередине улицы между двумя рядами лошадей и стальных пик». «Эти ощущения я бы не назвал приятными, – вспоминал Роджерс. – Всю дорогу я представлял, как извиваюсь на одной из этих пик, как червяк на крючке». «Отныне я никогда не буду ловить рыбу на живую приманку», – резюмировал он{205}.
В поисках темы для очередной статьи Арно Дош-Флеро в этот день проделал «длинный путь» по Выборгской стороне и обнаружил, что «на ней было много войск». Некоторые трамваи еще ходили, «но в целом в районе стояла зловещая тишина». На улицах были только уже привычные очереди за хлебом и группы рабочих, чье «тяжелое молчание» показалось Флеро «многозначительным». Томпсон также заметил их, когда после ужина у «Донона» он решился до трех часов ночи прогуляться по окраинам города{206}. В посольстве Франции первый секретарь Шарль де Шамбрюн писал своей жене, обдумывая только что услышанные им новости о том, что на следующий день объявлена всеобщая забастовка. Будут новые демонстрации, будут новые акции протеста. Но что может сделать толпа «без алкоголя, без лидера, без четкой цели?» – задавался он вопросом. Наступила ночь, и Петроград застыл в напряженном ожидании{207}.
Глава 3
«Как в праздничный день, но в воздухе пахнет грозой»
«Ох уж эта нескончаемая русская зима, эти месяцами белые крыши и скользкие дороги», – с грустью писала в своем дневнике француженка Луиза Патуйе, хоть она уже давно привыкла к этому низкому серому небу, которое и хмурым утром 25 февраля, в субботу, приветствовало город новым снегопадом{208}. Лейтон Роджерс, напротив, восторженно восклицал: «Что за день! Всеобщая забастовка началась, это точно, и начались беспорядки». В то утро по дороге в банк он и его коллеги «обнаружили, что на улицах полно полицейских, пеших и конных, заводы не работают, по всему Невскому проспекту закрыты магазины, повсюду заколочены двери или окна». До него дошли слухи, что предыдущей ночью при попытке проникнуть в хлебный магазин впервые был убит человек. Люди на улицах, казалось, ищут развлечений, «как зеваки на большой сельской ярмарке», но Роджерсу «даже думать не хотелось о том, что может начаться после первого же выстрела»{209}.
Знал бы Роджерс, сколько оружия уже было на руках забастовщиков, которые готовились к неизбежным уличным боям с полицией, он был бы более встревожен. Посольства и дипломатические миссии по всему городу получали по телефону уведомления о том, что сотрудникам не рекомендуется покидать свои помещения и выходить на улицу. Тем не менее Роджерс в тот день несколько безрассудно отправился из Петроградского филиала Государственного муниципального банка Нью-Йорка с «краткосрочными казначейскими облигациями на сумму девять миллионов рублей», чтобы «положить их на хранение» в ячейку сейфа в хранилище Волжско-Камского банка, до того как в воскресенье банк закроется. Банкноты, общей стоимостью примерно 3 миллиона долларов США, он положил во внутренний карман пальто и покинул помещение филиала банка, который находился в здании бывшего посольства Турции на Дворцовой набережной. Однако на улице было полно народа, поэтому ему пришлось сделать крюк, чтобы обойти толпу. У Михайловского театра он ненадолго остановился, чтобы прочитать афишу нового французского сезона. И тут к нему подбежал его коллега из банка и закричал: «Где Вы, черт возьми, пропадаете?! Мы ищем Вас по всему городу, всех уже обзвонили!» Когда они позвонили в Волжско-Камский банк, оказалось, что Роджерс туда еще не приходил, и все были встревожены, подумав, что с ним что-то случилось, поскольку им намекнули, «что началась революция»{210}.
Рабочие из фабричных районов, выходившие тем утром на многотысячную демонстрацию, были настроены решительно и готовы к столкновениям с полицией. На этот раз под ватники они надели несколько слоев одежды, чтобы выдержать удары нагайками со свинцовыми наконечниками, которыми пользовались «фараоны». Некоторые даже смастерили себе металлические пластины, которые можно было надевать под шапку, чтобы защититься от таких ударов, а также набивали карманы любыми металлическими деталями, подходящими для метания, и оружием, которое они могли достать у себя на фабриках{211}. В полдень толпы начали двигаться вниз по Невскому проспекту, но «фараоны» уже ждали их на Литейном мосту. Когда толпа подалась вперед, чтобы попытаться перейти его, «фараоны» набросились на нее. Однако толпа сначала расступилась, чтобы пропустить их, а потом быстро сомкнула свои ряды, как в тиски захватив офицера полиции. Его стянули с лошади. Кто-то из толпы схватил его револьвер и застрелил офицера из его же оружия, другой в это время продолжал яростно бить его деревянной дубиной{212}. Это было первое открытое столкновение с полицией в тот день.
На юге Петрограда к забастовке присоединились рабочие большого предприятия – Путиловского завода, это было огромное количество людей. В течение дня стачка неумолимо распространялась по всему городу. В конце концов на улицу вышли все: приказчики и половые, повара, горничные и извозчики, работники жизненно важных для снабжения города предприятий энерго-, газо- и водоснабжения, а также рабочие трамвайных депо и вагоновожатые. С утра несколько хлебных лавок еще были открыты, но вскоре после полудня и они были вынуждены закрыться, а забастовка работников почтовых отделений и печатников привела к тому, что не доставлялись ни почта, ни свежие газеты. Количество бастующих еще более возросло, когда к ним присоединилось по меньшей мере 15 000 студентов. Они подошли пятнадцатью различными колоннами и объединились на Невском проспекте. Точно не известно, сколько всего человек вышло на демонстрации на улицы Петрограда в тот день; по официальным данным, их было от 240 000 до 305 000{213}.
Стихийные протесты из-за нехватки хлеба, начавшиеся двумя днями ранее, теперь разрослись в политическое движение, в ходе которого все больше и больше стало проявляться насилие, случались акты грабежа. Амели де Нери видела на Литейном проспекте, как молоденький паренек, который помогал грабить небольшую еврейскую лавочку, стоял там и продавал шесть десятков украденных перламутровых пуговиц за рубль. Это, может быть, являлось просто мелким воровством, но Амели де Нери почувствовала, что произошло тревожное изменение общественных отношений, вызванное протестами, стали стираться грани между «своим» и «чужим». А назавтра, задалась она вопросом, быть может, «по моральным ценностям будет нанесен еще более мощный удар»{214}. Однако пока не было еще никаких внешних признаков организованного восстания, протест находился в зачаточном состоянии и не имел лидера. «Это еще бунт? Или уже революция?» – вопрошал Клод Анэ, петроградский корреспондент газеты «Ле пти паризьен», который – как и другие иностранные журналисты в городе, – к несчастью, не имел возможности отправить эти новости по телеграфу своей газете в Париж{215}.
Вновь ударили морозы; на улицах почти не было движения, поскольку трамваи не ходили, а многие магазины были закрыты, так что толпы людей сновали по Невскому проспекту, «двигались вверх и вниз в тревожном любопытстве», собирались на перекрестках. Лейтон Роджерс вспоминал, что «толпа была любопытной, улыбающейся, решительной», но он почувствовал и еще кое-что: она была «опасной»{216}. Войска стояли наготове в обычных точках сбора на основных перекрестках вдоль всего Невского проспекта, на протяжении более двух километров от Зимнего дворца на северной оконечности проспекта, далее вниз мимо Казанского собора на Знаменской площади и вплоть до южного окончания проспекта, у Николаевского вокзала[43]. Как и казаки, солдаты, казалось, не хотели применять силу, и толпе показалось, что они одержали верх.