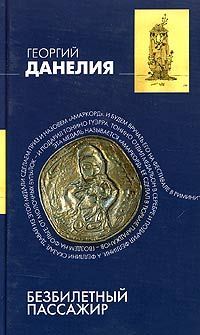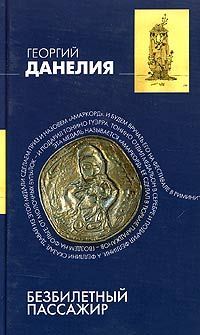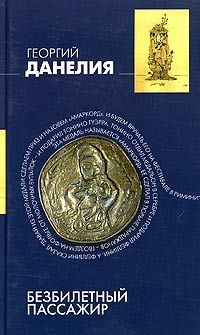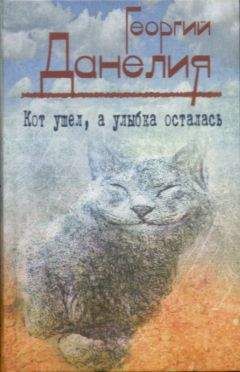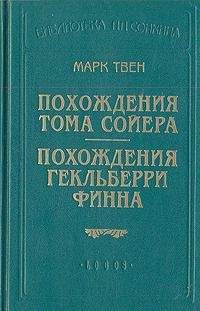Ознакомительная версия.
В Уланском, на Сретенке и на Мархлевского меня все школьницы узнавали! А среди «мелочи» (второй-третий класс) шла борьба за честь нести на концерт мои барабан и тарелку.
Победил заика Козленок, парень из третьего «Б». Я затыкал палочки за пояс, засовывал руки в карманы и шел, насвистывая сквозь зубы, а впереди важно вышагивал гордый Козленок с моими инструментами в руках… Вот когда я был знаменитым!
Прошло много лет. В конце семидесятых в Доме архитектора на масленицу устроили блины для актеров театра «Современник». По старой памяти позвали и меня. Под конец вечера на эстраду, где играло трио: рояль, контрабас и ударник, поднялся Михаил Козаков и заявил:
— Все знают, что Евгений Евстигнеев хороший актер, но никто не знает, что он потрясающий ударник. Давайте попросим, чтобы он сыграл.
А архитекторы сказали:
— Все знают, что Данелия режиссер, но никто не знает, что он барабанщик получше вашего Евстигнеева.
Решили устроить соревнование. Евстигнеев сыграл так, что мне на сцену вылезать уже не хотелось. Но отступать было некуда, и я старался, как мог.
Стали решать, кто победил. Актеры кричат: «Евстигнеев», архитекторы — «Данелия». Призвали в арбитры ударника оркестра, толстого и лысого немолодого человека с красными прожилками на щеках. И он на вопрос «кто лучше» сказал, заикаясь:
— К-конечно, Данелия.
А в гардеробе, когда я одевался, он ко мне подошел:
— Г-гия, ты меня не узнаешь? Я К-козленок…
Мы выпили по сто грамм и больше никогда не виделись.
Первая любовь Чарли-трубача
И еще одно воспоминание, связанное с джазом.
Иногда в наш школьный оркестр удавалось залучить трубача. Чарли было девятнадцать лет. Маленький, щуплый, длинноволосый, одетый по моде сорок восьмого года — туфли на толстой каучуковой подошве, брюки дудочкой, пиджак почти до колен, зеленая широкополая шляпа, — Чарли был великолепным трубачом. Но его ни в один оркестр не брали, потому что Чарли играл только джаз. В руках у него всегда был футляр с трубой. И он охотно вынимал ее по первой же просьбе. Встретишь его на улице Горького или в клубе железнодорожников, попросишь: «Чарли, сыграй», — он тут же достает трубу, вставляет мундштук и начинает «Сан-Луи блюз»… Играл минут пять — пока не подбегали дружинники и не утаскивали Чарли в милицию. При мне так его уводили раза три.
В тот день я проснулся в пятом часу. Уже светает — в начале июня в Москве светает рано, — тихо, даже воробьи еще спят. И вдруг слышу — еле-еле, очень тихо — звук трубы, «Сан-Луи блюз». Я оделся, вышел. На улице — никого. Прошел переулок, вошел на звук через арку во двор. На третьем этаже в окне — Чарли. Голый по пояс, в шляпе на глаза. Играет на трубе с сурдинкой. Странно, но звук, когда я подошел, не усилился — такой же тихий.
— Что, Чарли, не спится?
— Влюбился…
И я ему позавидовал — у меня все было иначе…
Первая любовь Валико из соседнего переулка
В апреле сорок второго Валико Глонти из соседнего переулка (ему было пятнадцать лет) безнадежно влюбился в красавицу Лейлу из нашего переулка, в которую были влюблены все. (Я жил тогда в Тбилиси у Верико.) Валико писал стихи о своей первой любви и читал их инвалиду финской войны, безногому сапожнику Вартану, у которого работал подмастерьем. Вартан слушал стихи, слушал… А потом решил:
— Стихи — это для уха. А я тебе сделаю для глаз.
И пошил Валико ботинки с каблуками из плексигласа, и в каблуки вмонтировал лампочки на батарейках. Наступаешь — лампочка зажигается.
Когда стемнело, Валико стал ходить по нашему переулку под окнами Лейлы туда-сюда. Ходит, а каблуки мигают. Очень красиво! И Вартан тоже прикатил на своей тележке, любовался издалека. Но недолго Валико ходил. Бабушка Лейлы вышла на балкон и накричала на Валико:
— Ты зачем, идиот, тут своим светом мигаешь? Хочешь, чтобы на наш дом немцы бомбу скинули?! Убирайся, чтобы я тебя больше не видела!..
(Во время войны Тбилиси не бомбили, но немецкие самолеты иногда летали над городом и зенитки постреливали.)
А потом в мастерской, когда Валико, с трудом сдерживаясь, чтобы не заплакать, вынимал лампочки из каблуков, Вартан сказал:
— Были бы у меня ноги, я бы по десять лампочек на каждую сделал! И плевать мне было бы на любовь. И на первую! И на последнюю!
Моя первая любовь
…Она каждый день ходила через наш двор в булочную за хлебом. Она была… Даже описать ее не могу. Она была как мечта. Я долго собирался и, наконец, отважился познакомиться. Как это делается, я видел в кино.
— Девушка, который час? — крикнул я ей вслед.
— Дурак, — сказала она, не оглядываясь.
Мне было шесть лет, а ей — девять.
Конецкий
После «Сережи» следующий фильм снимать было страшно. Конечно, хотелось такого же успеха, призов на фестивале, статей в газетах… Но я понял: буду рассчитывать на успех — вообще никогда ничего не сниму. Не надо думать о результатах. Надо снимать то, что самому нравится и за что потом не будет стыдно.
И я взял в Первом объединении сценарий Виктора Конецкого «Путь к причалу».
Конецкий жил в Ленинграде и приехал в Москву для подписания договора.
А вечером он должен был прийти ко мне домой — знакомиться.
Виктор Викторович Конецкий невзлюбил меня сразу: я встретил его босой и с подвернутыми штанами. Был приготовлен обед, на кухне был накрыт стол… Но я обещал маме натереть пол и не рассчитал время.
А Конецкий решил, что это пренебрежение зазнавшегося столичного киношника к неизвестному (тогда) автору.
Но это еще не все. Еще больше он меня возненавидел, когда мы заговорили о сценарии и я сказал, что история его героя, боцмана Россомахи, — для меня не главное, меня больше интересует настроение и антураж. А Конецкий, штурман дальнего плавания, написал о реальном событии, в котором участвовал сам. И боцман тоже был списан с реального человека. И именно о боцмане, об этом нелюдимом, одиноком моряке написал он свой сценарий.
Я Конецкого возненавидел позже, когда два с половиной месяца вынужден был каждое утро слушать, как он поет (два с половиной месяца мы провели в одной каюте, — изучая материал к фильму, шли на сухогрузе «Леваневский» по Северному морскому пути). Пел он фальшиво, гнусным голосом, всегда одну и ту же песню… А не петь Конецкий не мог — это вошло у него в привычку.
Между прочим. В другом исполнении эту песню я услышал, когда мы вернулись из плавания и пошли в гости к писателю Юрию Нагибину. Там усатый худой парень взял гитару и запел: «Надежда, я вернусь тогда, когда трубач отбой сыграет…» Я тронул парня за плечо и вежливо сказал:
Ознакомительная версия.