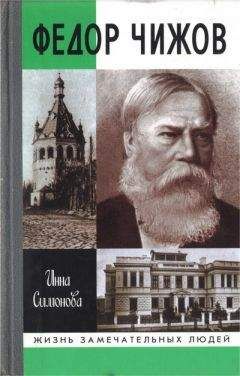Вместе с тем по некоторым другим, не менее принципиальным, вопросам между ними возникали существенные разногласия. В письме к Языкову Чижов объяснил это тем, что Мицкевич, «хотя и славянин душою и телом, но все-таки славянин западный»[78]. Его смущал экзальтированно-болезненный мистицизм Мицкевича. Притязание поэта на признание за поляками особой исключительности вызывало у Федора Васильевича решительный протест: польский народ не имел сил сохранить свое независимое существование, тогда как «только одни русские из всех славянских народов удержали полную самостоятельность… Это же значит что-нибудь!» — доказывал он[79].
Кроме того, Чижов категорически возражал против участия Франции как союзницы славян в деле их национального освобождения и вступления на мессианский путь спасения человечества. Насколько уже к этому времени были сильны славянофильские убеждения Чижова, говорит выдержка из его письма к Языкову, посвященная его полемике с Мицкевичем по вопросу о Франции: «Я вскочил с места, — это не слово славянина, это влияние западной крови, это мысль поляка, а не славянина, то есть того, что есть в поляке неславянского. Я говорю, и говорю со всею силою, даже до того, что, наконец, ударил кулаком по столу и слеза заблестела на глазах: нет, мертвому, изгнившему Западу не вести живые силы Востока на святое дело человечества! Я был так этим выведен из покойного положения, что хотел продолжать, но он (Мицкевич. — И. С.) просил <меня> остаться… в дружбе нашего единства убеждений, и я пока оставил этот вопрос»[80].
Вывод, который Чижов сделал в результате общения с великим польским поэтом, был однозначен: «У него много такого, что мне очень и очень пригодится»; «Что-то я получу от Мицкевича, но что бы ни получил… всего надобно искать в себе самом, а не вне себя»[81].
Здесь же, в Париже, на квартире у П. Ф. Заикина, состоялась встреча Чижова с Михаилом Александровичем Бакуниным, который в эти годы занимался усиленной пропагандой идеи выхода славян из состава Австрийской, Турецкой и Российской империй и объединения их в единую славянскую федерацию. Между Чижовым и Бакуниным разгорелся спор о судьбах славянского мира. При этом Чижов остался собой недоволен: «Я громко защищал великое назначение славян, но довольно слабо. Не знаю, оттого ли, что не имею навыка спорить…»[82]
Десять лет назад, во времена никитенковских «пятниц», Чижов видел в конституционной монархии во Франции образец для России. Оказавшись в Париже, он, отдавая дань своим былым воззрениям, интересовался работой палаты депутатов французского парламента и даже однажды посетил ее заседания. Половинчатый конституционализм буржуазной монархии Луи Филиппа вызвал у Чижова чувство раздражения: «Имя короля… французов не выходит у меня из головы; можно ли что-нибудь предположить глупее этого: лить реки крови, перевернуть все до самых основных строений… и остановиться на самом глупом предрассудке: король нужен потому, что он существовал несколько веков, вот и вся его необходимость»[83].
Сам Париж с его яркими социальными контрастами произвел на Чижова неблагоприятное впечатление. «Повсюду столпотворение народа; вечное празднество рядом с вечно рабочею жизнью, — празднество для достаточных, тяжкие работы, труд без отдыха — для бедного», — писал он в своих путевых заметках, опубликованных в славянофильском «Московском литературном и ученом сборнике». Со смешанным чувством сострадания и негодования описывал он уличную сцену возле трактира: обитатель парижского «дна», бедняк, паупер, «роется в сору, чтобы заработать несколько сантимов»; «хлеб с водою — вот и вся его пища…» Подобного рода наблюдения приводили Чижова, с одной стороны, к выводу об обреченности «старых», отживших свой век, терзаемых социальными противоречиями стран Западной Европы; с другой — убеждали его в истинности славянофильских пророчеств о том, что «только простой, пока еще не испорченной природе» славян, и прежде всего русскому народу, суждено вернуть западноевропейскую цивилизацию к гармонии «внутренних и внешних сторон ее существования»[84].
В дневниковой записи от 31 декабря, подводя итог уходящему 1844 году, Чижов с удовлетворением отметил упрочение своих новых социально-политических воззрений: «Особенно сильно развилось понятие о значении и назначении славянского племени; этим я много обязан моему путешествию в Париж»[85].
Глава седьмая
НОВООБРАЩЕННЫЙ ДРУГ
Прошедший 1844 год оказался знаменательным для Чижова еще по одной причине — осенью в монастыре голландского города Виттема состоялась его последняя перед более чем четвертьвековой разлукой встреча с другом юности, кумиром петербургских «пятниц» Владимиром Сергеевичем Печериным, бежавшим в середине 30-х годов на Запад и принявшим католичество.
…Запрет на выезд подданных Российской империи за границу, связанный с революционными волнениями в странах Западной Европы, не просуществовал и года. Уже в следующем 1833 году, в марте, Печерин, успешно окончивший Петербургский университет со степенью кандидата, был послан в числе шестнадцати молодых ученых в Берлин на двухгодичный срок для подготовки к профессуре.
Сделав остановку в Риге, Печерин отправил в столицу письмо, весьма характерное для его душевного состояния в то время: «Первый день — браните меня, как хотите, — я плакал, как дитя, — писал он друзьям. — Всё моё блестящее будущее затмилось: я видел только ужасные два года, отделяющие меня от Петербурга… Приветствуйте от меня всю нашу незабвенную „пятницу“, всех и каждого. Душеньку Чижова поцелуйте за меня». И подписался: «Г. Печерин, рыцарь, едущий в Палестину. В своей прекрасной родине он оставил все сокровища своего сердца, а впереди раскрывается мало-помалу перед ним обетованная земля, где сияет ему навстречу вечное солнце Истины»[86].
Спустя два с половиной месяца, уже в Берлине, городе, который даже после смерти Гегеля оставался столицей гегельянства, Печерин еще надеялся, углубив свои познания, быть полезным родине, томился вдали от «любезного Петербурга», огорчался отсутствием писем от друзей: «Жестоко не иметь так долго от вас известий! Как процветает наша „пятница“? Как живут и развиваются мои юные друзья, исполненные свежей поэтической жизни? Как уживаются их (или лучше: наши) прекрасные идеалы и надежды с враждебною действительностью?»[87]