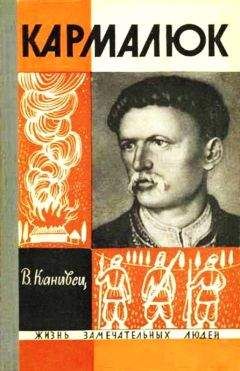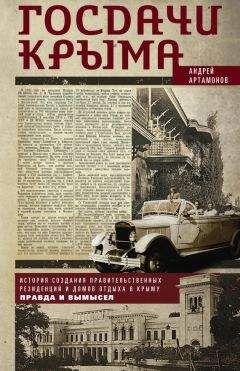Эти сообщения чрезвычайно любопытны: хотя Желябов и был горячим народником, но так прямолинейно, как большинство тогдашних его товарищей, он уже не отрицал политической борьбы. Он, видимо, полагал что, не дело социалистов ее самим вести, но вместе с тем он находил отнюдь не бесполезным, если "политикой" занимается "общество".
Известно также, он осуждал южных бунтарей — "вспышкопускателей". Словом, уже тогда Андрей Иванович не удовлетворялся примитивным народничеством. Опыт хождения в народ заставил его ко многому отнестись критически. Желябов вообще никогда не был догматиком. На первомартовском суде он говорил:
— Непродолжительный период нахождения нашего в народе показал всю книжность, все доктринерство наших стремлений, а с другой стороны — убедил, что в и народном сознании есть много такого, за что следует держаться, на чем до поры до времени следует остановиться…
Желябов ошибался: всю книжность и все доктринерство общепринятых тогда в среде молодых народников взглядов ни он, ни его друзья не сознавали. Осталась вера в общину, в то, что вместе с полицейским государством можно свалить также буржуазию и учредить вольные общины; но были разбиты надежды, будто народ чуть ли не поголовно по первому призыву отважных людей готов к восстанию, что правительство можно свергнуть без строгой централистической подпольной организации, опираясь на одну народную стихию. Переживая все эти разочарования и крушения "розовой, мечтательной юности", Желябов в то же время видел, что все — лучшее, смелое и решительное — в народническом движении, что настоящему бойцу итти больше некуда, как рука об руку с революционным народничеством.
Летом 1877 г. Желябова подвергают в Крыму новому аресту. Его привлекают по делу 193-х, привозят в Петербург и помещают в Доме предварительного заключения.
Судебный процесс 193-х, как и процесс 50, получился после массовых жандармских и полицейских погромов, которые шли, начиная с 1873 г. Арестам подвергли несколько тысяч человек. Неопытность молодых революционеров, откровенные показания, оговоры, запугивания и застращивания были широко использованы правительством. Власти не гнушалися собиранием сплетен, выдумок, чтобы опорочить молодое движение… Для многих привлеченных следствие тянулось по нескольку лет; людей держали в тюрьмах, морили голодом, надевали наручники и кандалы, подсаживали предателей. Из массы арестованных правительство предало суду 193 человека. Они обвинялись в том, что принимали участие в тайном сообществе, посягнувшем на ниспровержение существующего строя. Из них двенадцать человек добавочно обвинялись в распространении сочинений с целью произвести бунты; были и другие обвинения. Незадолго до суда, в Доме предварительного заключения Трепов, петербургский градоначальник, встретил на прогулке студента Боголюбова, который ему не поклонился. Взбешенный помпадур распорядился высечь его розгами, что и было выполнено с усердием. Заключенные ответили на порку разными формами протеста, между прочим, отказались и от прогулок. Гуляли обычно во внутреннем дворе, похожем на колодезь. Посередине его находилось особое круглое деревянное сооружение. С башней посредине и с досчатыми переборками. В эти клетки заключенных выводили гулять. Во время боголюбовской истории Желябов и был доставлен в тюрьму.
— На другой день по прибытии Желябова надзиратель пришел узнать, пойдет ли он гулять. Ничего не зная, Желябов заметил: "Странный вопрос!" " отправился в загон. Увидевши гуляющего, его спрашивают из окна: "Вы кто?" "Желябов". "Политический?" "Да, по процессу". "Зачем же вы гуляете? Мы не ходим гулять"… Удивленный Желябов тем не менее приказал отвести себя обратно в камеру и тут только, вышедши к окну, узнал все наши истории… В среде тюремной Желябов сразу стал товарищем, вошел во все интересы тюрьмы…[25]
На протесты тюремное начальство ответило расправами. Политических сажали в карцеры. Многих подвергали избиениям с увечьями и членовредительством. Чтобы неслышно было окриков, надевали мешки. Из карцерных камер не убирались нечистоты. Для наиболее строптивых имелся особо тесный и темный карцер около паровой топки; температура в карцере была очень высокая, вентиляция отсутствовала; заключенным не давали воды, они падали в обмороки, их приводили в чувство и опять помещали в тот же карцер. Товарищ прокурора, посетивший эти карцеры, дважды испытал дурноту от удушающего воздуха и смрада, исходящего от параши. Каким образом все это отражалось на боевой и впечатлительной натуре Желябова, представить совсем нетрудно.
Накануне процесса среди заключенных усиленно обсуждался вопрос, признавать или не признавать суд. Одни полагали, что надо не признавать и отказаться от всяких выступлений. Другие находили, что следует использовать суд для изложения революционных убеждений. Желябов стоял за протест и отказ.
В недавно опубликованных воспоминаниях сенатор Кони рассказывает:
— О том, что происходило в суде, распространились по городу самые неправдоподобные, но тем не менее возбуждающего характера слухи с партийной окраской. Некоторые сановные негодяи распространяли, например, слухи, будто бы исходившие от очевидцев, что подсудимые, стесненные на своих скамьях и пользуясь полумраком судебной залы, совершают во время следствия половые соития; с другой стороны, рассказывали, что подсудимые будто бы заявляют об истязаниях и пытках, которым их подвергают в тюрьме, но что жалобы их остаются "гласом вопиющего в пустыне" и т. п. Молчание газет и лаконизм "Правительственного Вестника" давали простор подобным слухам, которые в болезненно возбужденном обществе расходились с необычайной быстротой и всевозможными вариантами. Во всем чувствовалось, что потеряно равновесие, что болезненное озлобление подсудимых и известной части общества, близкой им, дошло до крайности. Искусственно собранные воедино, подсудимые, истощенные физически и распаленные нравственно, устроили уже на суде между собой нечто вроде круговой поруки и с увлечением выражали свое сочувствие тем из своей среды, кто высказывался наиболее круто и радикально…
— … Обвинительная речь Желеховского, длинная и бесцветная, поразила всех совершенно бестактной неожиданностью. Так как почти против ста подсудимых не оказывалось никаких прочных улик, то этот судебный наездник вдруг в своей речи объявил, что отказывается от их обвинения, т. к. они были-де привлечены лишь для составления фона в картине обвинения для остальных. За право быть этим "фоном", они, однако, заплатили годами заключения и разбитой житейской дорогой! Такая беззастенчивость обвинения вызвала своеобразный отпор со стороны защиты и подсудимых и подлила лишь масла в огонь. Защитительные речи обратились в большинстве в обвинительные против действия Жихарева и аггелов его, а последние слова подсудимых оказывались проникнутыми или презрительной иронией по отношению к суду или пламенным изложением не защиты, а излюбленных теорий[26].