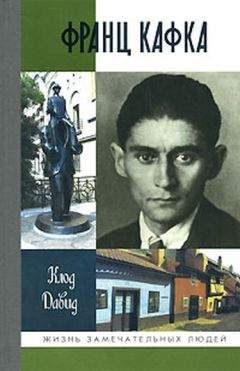В своих письмах к Оскару Поллаку — самых ранних из сохранившихся — Кафка вначале сожалел о трудностях общения между ними: «Когда мы разговариваем вместе, слова отличаются резкостью, это все равно что идти по плохой мостовой. Наиболее тонкие вопросы внезапно уподобляются наиболее трудным шагам, и мы ничего с этим не можем поделать /…/. Когда мы разговариваем, мы стеснены вещами, которые хотим высказать, но не можем их выразить, тогда мы высказываем их так, что у нас складывается ложное представление. Мы не понимаем друг друга и даже насмехаемся друг над другом /…/. И потом есть шутка, превосходная шутка, которая заставляет горько плакать Господа Бога и вызывает в аду сумасшедший, поистине адский смех: мы никогда не можем иметь чужого Бога — только нашего /…/». А в другой раз опять: «Когда ты стоишь передо мной и на меня смотришь, что знаешь ты о моей боли и что я знаю о твоей?» И как бы переходя от одной крайности к другой, он просит в 1903 году в другом письме к Поллаку быть для него «окном на улицу». Несмотря на свой высокий рост, по его выражению, он не достигает до подоконника. И этот образ кажется ему столь верным, что он сделал его мотивом небольшого рассказа, несомненно, самого раннего из тех, которыми мы располагаем и который он назвал «Окно на улицу». Чтобы жить, он нуждается в ком-то более сильном, более мужественном, чем он. В сущности, он готовится жить по доверенности. Кафка уже устроился на обочине, в стороне от жизни или, как он скажет позднее, в пустыне, которая граничит с Ханааном.
Но Поллак покидает Прагу, вначале он едет в провинциальный замок, где работает воспитателем, потом в Рим, где займется изучением искусства барокко. И более чем на двадцать лет именно Макс Брод станет «окном на улицу», в котором нуждается Кафка. Между ними мало сходства. Брод, журналист, романист, театрал (он закончит свою жизнь в должности художественного директора театра «Хабимах» в Тель-Авиве), философ, руководитель оркестра, композитор. Он столь же экстраверт, как Кафка замкнут, столь же активен, как Кафка меланхоличен и медлителен, столь же плодовит в своем писательском труде, как Кафка требователен и не обилен в своем творчестве. Переболевший кифозом в ранней юности, Брод был слегка искривлен, но компенсировал свой недостаток исключительной живостью. Благородный, восторженный, легко загорающийся, он постоянно должен быть занят каким-нибудь делом, и в течение жизни у него будет много разных дел. Он справедливо озаглавил свою автобиографию «Бурная жизнь», боевая жизнь. В этот период своей жизни — ему было восемнадцать лет — он был фанатичным приверженцем Шопенгауэра и следовал философии, которую называл «индифферентизмом», — из необходимости всего происходящего он выводил некое подобие универсального извинения, что позволяло не считаться с моралью. Вскоре он будет рассматривать эту доктрину как заблуждение молодости, но он исповедовал ее в то время, когда впервые встретил Кафку. И спор, который начался в тот вечер, никогда больше не закончится, потому что сколь разными они были, столь близкими друзьями они станут; они превосходно дополняют друг друга. Если никому и не придет в голову причислить Макса Брода к великим людям, надо признать наличие у него неординарного литературного чутья: с первых писательских опытов Кафки, еще неуверенных и неловких, он сумел распознать его гений. В этой столь обделенной жизни дружба Макса Брода была бесконечной удачей. Без Макса Брода имя Кафки, возможно, осталось бы неизвестным; кто может сказать, что без него Кафка продолжил бы писать?
* * *
На начало дружбы с Максом Бродом припадает для Кафки период развлечений, или, как мы бы сказали, вечеринок. Чтобы знать, как он себя вел, достаточно прочесть начало «Описания одной борьбы», так как в этих литературных дебютах сохранена дистанция, которая разделяет пережитое и вымысел. Как не узнать автопортрет или автокарикатуру в этом «качающемся шесте», на который неловко насажен «череп, обтянутый желтой кожей с черными волосами»? Это он остается сидеть один перед стаканом бенедиктина и тарелкой с пирожными, тогда как другие, более смелые, пользуются благосклонностью женщин и хвастаются своими завоеваниями. После каникул 1903 года он мог рассказать Оскару Поллаку, что набрался храбрости. Его здоровье улучшилось (в 1912 году он напишет Фелице Бауэр, что уже десять лет чувствует себя плохо), он стал сильнее, он вышел в свет, он научился разговаривать с женщинами. И что особенно важно, пишет он, он отказался от жизни отшельника. «Клади свои яйца честно перед всем миром, солнце их высидит; кусай лучше жизнь, чем свой язык; можно уважать крота и его особенности, но не надо делать из него своего святого». Правда, тотчас же добавляет он, некий голос сзади вопрошает: «Так ли это в конце концов?» Он утверждает, что девушки единственные существа, способные помешать нам опуститься на дно, но немного раньше пишет Поллаку: «Я дивно счастлив, что ты встречаешься с этой девушкой. Это твое дело, она мне безразлична. Но ты с ней часто говоришь, и не только ради удовольствия говорить. Может случиться, что ты идешь с ней туда или сюда, в Росток или еще куда-нибудь, в то время как я сижу за своим письменным столом. Ты с ней говоришь, а в средине фразы возникает некто, приветствующий вас. Это я со своими плохо подобранными словами и кислым выражением лица. Это длится лишь мгновение, и ты возобновляешь разговор /…/».
Десять лет спустя, вспоминая эти первые годы юности, он пишет Фелице Бауэр: «Если бы я знал тебя уже лет восемь или десять (ведь прошлое так же достоверно, как и утрачено), мы могли бы быть счастливы сегодня без всех этих жалких уверток, вздохов и без надежных умолчаний. Вместо этого я сходился с девушками — теперь это уже далекое прошлое, — в которых легко влюблялся, с которыми было весело и которых я еще легче бросал, чем они бросали меня, не причиняя мне этим ни малейших страданий. (Множественное число не говорит об их многочисленности, оно употреблено здесь лишь потому, что я не называю имен, ведь все давно миновало)».
После своего экзамена на зрелость Кафка уехал один в небольшое путешествие к Северному морю, на Северо-Фризские острова и остров Гельголанд, он проводит каникулы в семье, часто в Либоше на Эльбе. Мы находим в «Описании одной борьбы» короткий отголосок того пребывания. Чтобы не выглядеть слишком неприветливым перед своим собеседником, восторженным влюбленным, рассказчик в свою очередь старается придумать галантные приключения: " — Однажды я сидел на скамейке на берегу реки в неудобной позе. Положив голову на руку, я смотрел на туманные горы другого берега и слышал нежную скрипку, на которой кто-то играл в прибрежной гостинице. По обоим берегам сновали поезда со сверкающим дымом.