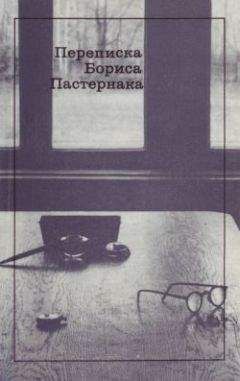Но это хорошо, Боря, что ты не отказался от приезда в СПб. категорически; ах, ведь наука и надежда одинаково питают юношей…
Знай, я в сентябре опять напишу тебе, и опять тебя буду звать. А если приехать ты не сможешь и тогда, – мы простимся письменно minimum на год. Я только немного страшусь этих завещаний, потому что после истинного завещания неминуемо должна последовать смерть – иначе оно не оправдывает своего назначения. И оно так выношено, выстрадано, живо, что остается только написать. Но хочется жить! И вот тебе на практике рядом с логикой, психологией и философией (правда, они здесь подразумеваются в кавычках) – глупая «жизнеупорность», о которой я тебе уже писала.
Ну, а твои зубы? Я, положим, догадывалась по тому письму, что пострадала мудрость… зубов. Но предложила тебе вырвать оттого, что к этому сводятся все врачевания; и чем чище зуб, тем сильнее боль, ибо к боли физической примешивается боль жалости и любви к зубу, – так не лучше ли его вырвать? А согласись, что зубы обладают редким и драгоценным свойством: когда они болят, их вырывают…
Чистая логика, опытная психология, высшая математика, – как хорошо все это звучит, и как хорошо, что ты там в гуще всего этого. Даже университет, профессор, экзамены – и это отлично. А я тут совсем одна в своей комнате – и ничего решительно не делаю, и ничего, кроме Мопассана, не могу читать: так-таки ничего. И ты представить себе не можешь, как хорошо, что ты в университете, и у тебя экзамены, и профессора читают о чистой логике. И, может быть, к лучшему даже тот ужасный факт, что ты в своей комнате не один. [48]
А у нас, в СПб. университете, преобразован филос<офский> отдел и там введены обязательные курсы высшей математики и естествознания. Это по-твоему.
Итак, пока до сентября; шлю тебе бумажное прости. Хотя… Ведь, наверное, тебе мама еще напишет, ты ей опять ответишь, и на ея ответ ответишь снова, – и, кто знает, вдруг мы опять с тобою встретимся где-нибудь у обрыва… не пугайся, твоего письма.
Ольга.
<Открытка с фотографией Леонида Осиповича и Анны Осиповны в Меррекюле, без даты, осталась не отосланной в бумагах Б. Пастернака. >
Вот эти две фигуры! Сколько мучительных вопросов напрашивается при виде их! Почему они, например, не сидят на скамье?! Что ждет их впереди, как смело, отважно смотрит он, обнаживши голову, в глаза аппарату, с кулачком и галстуком, в то время, как сестра его умывает руки! Кто разрешит эти неотложные проблемы!
Мы давно не виделись с тобою, Оля, даже в том переносном смысле, который способна перенести открытка! (Тетя, здравствуйте.) Я хотел бы очень знать, поедешь ли ты, и когда, в Париж. Вообще ты доставила бы мне такую радость, если бы написала о себе! Ты и не знаешь, как я буду ждать вестей от тебя, подкинувши на почте тетю и папу. Ты, может быть, восстановлена против меня чем-нибудь? Но на каких основаниях? Как ты чувствуешь себя? И если тебе плохо, то напиши, я сейчас же отвечу, и вот ты увидишь, как безнадежно симметрично выйдет это.
Уже через год после Меррекюля произошло событие, которое внесло много нового в мою жизнь. Я заболела плевритом, который быстро перешел в туберкулез, и наш врач велел немедленно везти меня за границу в горы Шварцвальда. Мама, перепуганная моей болезнью, оставила семью и повезла меня в Германию. Я поехала с трудом, так была слаба. Господин придворный советник, главный врач Шварцвальдского санатория после неудачных попыток лечения услал меня в Швейцарию, – во французскую, конечно, я в немецкую не хотела. И я с мамой очутились в Глионе, над Монтре, на горах, которые окружали Женевское озеро. Мы поселились в отеле на полной свободе. В голубом, поистине бирюзовом озере отражался там, внизу, Шильонский замок. И я быстро окрепла и стала поправляться. Через три месяца мои легкие зарубцевались и туберкулез был остановлен.
В одну из следующих зим я ездила в Москву. Боря был ласков, как обычно, и наши старые братские отношения восстановились; бывал он и в Петербурге, привязывался больше к маме, чем к отцу, и его сердечная теплота и мягкость, его нежное внимание ко мне носило привычный с детства, родственный характер.
Я была на этот раз более взволнована, чем Боря. Я испытывала разочарование. Мне было грустно, что все так прозаически у нас кончилось. Я ждала еще чего-то, – очевидно, того самого, чего не хотела. Мне казалось, что я глубже Бори, что я трудней вхожу и ухожу, а он поверхностный, скользкий, наплывающий. Время показало, что это было как раз наоборот и что я капризничала. Но мне было искренне грустно.
Мне хотелось поехать за границу одной, без мамы. Отец, любивший английское воспитание, охотно. отпустил меня, но поставил условие, чтоб один месяц я провела в горах Швейцарии для укрепления здоровья. С тех пор я еще три года ездила за границу преимущественно одна; там застала меня война 1914 года.
Я влюблялась в страны и людей, и знала, что навсегда их покину. И это делало для меня приятным, легким и максимально насыщенным каждое увлечение. Я не боялась ни случайности знакомств, ни двусмысленности встреч и свиданий. Я текла по теченью, полудремотная и активная, открытая всем впечатлениям и чувствам.
Как-то раз, проезжая Германию, я нарочно свернула во Франкфурт, недалеко от которого, в Марбурге, Боря учился философии у знаменитого Когена [49]
. Я остановилась здесь с коварной целью: написала письмо Боре и ждала, не откликнется ли он; если нет, то незаметней уехать с носом из Франкфурта, чем из Марбурга. Мне хотелось повидать Борю, но я боялась набиваться, боялась звать его, потому что за границей как-то особенно ощутила возможность новых волн старого чувства.<Франкфурт, 26 июня 1912 г.
Среда
Меня отделяет от тебя два часа езды: я во Франкфурте. При таких условиях добрые родственники встречаются. Не дашь ли мне аудиенцию? 3 дня я провела в Берлине с твоими родичами, и история Лейбница, вторников и пятниц [50] мне известна; поэтому боюсь, чтоб ты не понял в этом письме намека на завоевание других дней недели. Я свободна, приехать могу в тот час, который тебе наиболее удобен – днем ли, вечером ли, утром. И во Франкфурте я остановилась не для тебя одного, хотя и для тебя, конечно. После Берлина, твоих родителей с их хождениями по магазинам и после Вертгейма – я нечувствительна к сильным ощущениям. Все это ставлю тебе на вид, дабы ты не стеснялся «высказаться» – попросту, не тратить времени и энергии на нашу встречу. Ты знаешь ведь – искренность должна быть максимальной, и твой ответ должен быть решителен. Но ответь обязательно – я жду.