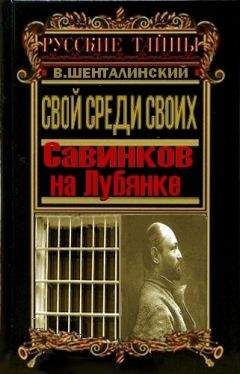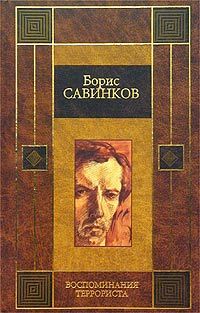Супругов Деренталь выпустили из тюрьмы. Его оставили, ему по-прежнему не доверяли, его шансы на свободу становились все призрачнее.
9 апреля, в день, когда тюрьму покинула Любовь Ефимовна, Савинков начинает тот самый свой дневник-исповедь.
Теперь он мог довериться только бумаге, и то не до конца: и она была невольницей, в любой момент могла из его рук перейти в руки чекистов. Об этом необходимо помнить, читая дневник, — некоторые пассажи в нем как будто специально рассчитаны на лубянских читателей.
Внешне Савинков продолжал исправно играть роль пропагандиста советской власти — таким он являлся миру, а в камере оставался одинокий, затравленный, все более теряющий надежду и веру в людей и в себя человек.
Простая тетрадь в линейку, в черном клеенчатом переплете, с пожелтевшими страницами. Семьдесят лет она утаивалась в бездонных анналах Лубянки под грифом «Секретно», за железными дверями и спинами часовых. Откроем эту тетрадь, перелистаем дни и ночи узника вслед за ним…
«10 апреля.
Открыли окно и унесли, по моей просьбе, ковер. Камера стала светлее, но неуютнее, строже. День длинный, вечер еще длиннее.
Л. Е. очень взволновалась статьей Арцыбашева. Ал. Арк. тоже. Я привык ко всему. Кроме того, мне кажется, что люди устроены так: когда им выгодна честность, они бывают честны, когда она им невыгодна, они лгут, воруют, клевещут… В своей жизни я видел очень мало действительно честных, то есть бескорыстных, людей — Каляева, Сазонова, Вноровского[6]… Должно быть, был бескорыстен Ленин, может быть, бескорыстен Дзержинский и еще некоторые большевики. Под бескорыстием я не понимаю только простейшее — бессеребреность, но и очень трудное — отказ от самого себя, то есть от своих всяческих выгод. Этот отказ возможен лишь при условии веры, то есть глубочайшего убеждения, если говорить современным языком, хотя это не одно и то же. У Арцыбашева и у Философова нет ни веры, ни твердого убеждения. И тот, и другой прожили безжертвенно свою жизнь.
Из своего опыта я знаю также и то, что цена клевете, как и похвале, маленькая. «Молва быстротечная». Когда я был молод, я тоже искал похвалы и возмущался клеветой… Но теперь, если я буду совершенно и до конца искренен, я должен сказать, что клевета меня трогает, только если она исходит от очень близких людей, а похвала не трогает совершенно. Все забывается. Все. Мама умерла два года назад. У нее была не совсем обыкновенная жизнь. (Савинкова Софья Александровна, псевдоним С. А. Шевиль; 1855–1923 — писательница, мемуаристка, сестра художника Ярошенко. — В. Ш.) Пока живы Руся и я, жива память о ней. Мы умрем, и о ней никто никогда не вспомнит. Даже внуки. Сколько лет будет жить не имя Ленина, а память о нем на земле? Пятьдесят? Может быть, сто?
Керенский, адвокат, никогда не знавший нужды, защищавший в политических процессах и ухаживавший за дамами, то есть человек, не имевший за что мстить, когда пришла революция, простил всем — царю, жандармам, каторжному начальству, урядникам, земским начальникам. А большевики не простили, а рабочие не простили, а крестьяне не простили. Я тоже не простил, но меня ослепила война. Я думал: после войны. Сперва необходимо победить. В этом «необходимо» все дело. Отсюда все, что было потом. Но откуда оно? Большевики правы: дворянин, интеллигент, потомок бунчужных полковников (бунчук — длинное древко с шаром или острием на верхнем конце, прядями из конских волос и кистями — знак власти атамана или гетмана на Украине и в Польше. — В. Ш.), я не мог примириться с мыслью о поражении. Солдаты были рваные, во вшах, по 45 человек в роте. А я звал на бой. Я не мог не звать. В сущности, я был против народа, за фикцию… Сколько крови и слез понадобилось, чтобы я выпутался из этой паутины…
11 апреля.
Была Л. Е. Она потрясена своим освобождением, — неуютностью комнаты, чужими людьми, неприткнутостью, самостоятельностью, тем, что у дверей не стоит часовой. Но если бы она здесь осталась, она бы окончательно потеряла здоровье…
Помню: вечер, мороз, Туров, или Петрикевичи, или Мозырь. Два балаховца (солдаты армии Балаховича. — В. Ш.) нагайками гонят еврея к мосту. Он упирается. На нем картуз и рваный, с торчащими клочьями меха, полушубок. Увидев меня, он кричит и машет руками: «Господин генерал!.. Ваше превосходительство!.. Только пере-но-цевать! Только пере-но-цевать!.. Замерзну в поле! Замерзну!..» И у него глаза такие, точно хотят выскочить из орбит. А балаховцы мне говорят: «Шпион».
12 апреля.
Воскресенье. Воскресные дни — самые длинные. Вероятно, потому, что в коридоре полная тишина. В будни часто проводят арестованных, слышны шаги и иногда голоса. По воскресеньям — ни звука.
У меня на столе — пушистая верба: спасибо Л. Е.
Прочел в «Правде» воспоминания Крупской о жизни Ленина в Лондоне. Кто из нас, эмигрантов при царе, интересовался рабочей жизнью на Западе? Иногда, очень редко, ходили на собрания послушать Жореса, иногда, еще более редко, совсем случайно, забредали в рабочие кварталы Парижа. Варились в собственном соку, рукоплескали разным Черновым[7] или отходили в сторону, в свое «логово», как я. А он проводил все дни среди рабочих, на их митингах, в их обжорках, в их читальнях. И Бурцев[8] продолжает верить, что Ленин мог взять деньги от немцев на революцию! Это значит ничего не понимать ни в психологии Ленина, ни в психологии рабочих. Но ведь и я этому верил. Почему?..
Очень хочется солнца. Сегодня я сказал надзирателю: «Мы с вами гуляем в колодце». Он засмеялся. Отсюда юг, горы, море кажутся сном — видел во сне, но не прожил…
13 апреля.
Были Л. Е. и Ал. Арк… Л. Е. все еще взволнована и не может прийти в себя. Ал. Арк. побледнел и очень похудел. С 1 апреля он получил 3 рубля. Сидит без чаю. Его положение, по-своему, не лучше моего. Ежеминутная зависимость и полная неизвестность.
14 апреля.
Был в Сокольниках с Пузицким, Сосновским, Гендиным, Ибрагимом. Еще только предчувствуется весна. Воздух туманный и влажный. Пахнет мокрой землей и перегнившим листом. На прудах — полурастаявший лед, сало. В лесу все видно насквозь — белые стволы берез, сероватые ветки, серо-голубые — осин, коричневые — сосен и елей. Небо низкое, темное. И полная тишина, как здесь.
Андрей Павлович, вероятно, думает, что «поймал» меня, Арцыбашев думает, что это — «двойная игра», Философов думает — «предатель». А на самом деле все проще. Я не мог дольше жить за границей. Не мог, потому что днем и ночью тосковал о России. Не мог, потому что в глубине души изверился не только в возможности, но и в правоте борьбы. Не мог, потому что не было ни угла, ни покоя (ведь впервые я жил с Л. Е. — здесь!). Не мог еще потому, что хотелось писать, а за границей что же напишешь? Словом, надо было ехать в Россию. Если бы я наверное знал, что меня ожидает, я бы все равно поехал. Почему я признал Советы? Потому, что я русский. Если русский народ их признал (а это было для меня почти очевидно еще в Париже — сбил с толку Андрей Павлович), то кто я такой, чтобы их не признать? Да, нищая, голодная, несчастная страна. Но я с нею. Был против Советов, когда думал, что народ их не хочет. Когда я поколебался? Мне кажется, в походе на Мозырь. Жулики, грабители и негодяи, с одной стороны (за редкими исключениями…), с другой — неприветливый и полувраждебный крестьянин. Когда я увидел эту неприветливость и эту враждебность, я понял, что народ не с нами…