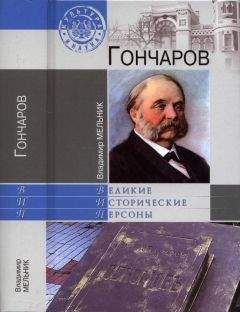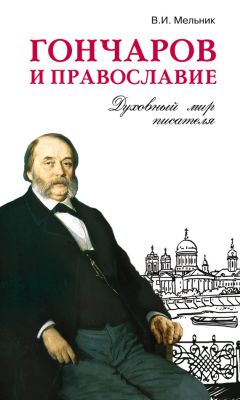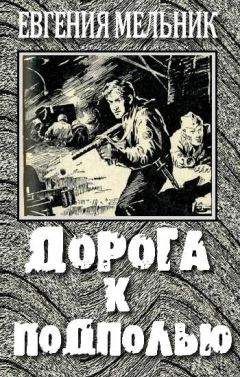Пребывание Гончарова в Московском университете, хотя и освещено в его собственных воспоминаниях («В университете»), все же пестрит белыми пятнами. Это было время, когда начиналась новая жизнь и у профессоров, и у студентов. От студенческих кружков Гончаров остался в стороне, из профессоров особенное влияние на него имели Николай Иванович Надеждин[91] и Степан Петрович Шевырев.[92] Его воспоминания «В университете» воспроизводят несколько иную, чем мемуары Герцена, университетскую атмосферу: «Благороднее, чище, выше этих воспоминаний у меня, да, пожалуй, и у всякого студента, в молодости не было. Мы, юноши, полвека тому назад смотрели на университет как на святилище и вступали в его стены со страхом и трепетом…
Наш университет в Москве был святилищем не для одних нас, учащихся, но и для их семейств и для всего общества. Образование, вынесенное из университета, ценилось выше всякого другого. Москва гордилась своим университетом, любила студентов, как будущих самых полезных, может быть, громких, блестящих деятелей общества. Студенты гордились своим званием и дорожили занятиями, видя общую к себе симпатию и уважение. Они важно расхаживали по Москве, кокетничая своим званием и малиновыми воротниками. Даже простые люди и те, при встречах, ласково провожали глазами юношей в малиновых воротниках. Я не говорю об исключениях. В разносословной и разнохарактерной толпе, при различии воспитания, нравов и привычек, являлись, конечно, и мало подготовленные к серьезному учению, и дурно воспитанные молодые люди, и просто шалуны и повесы».
Как видим, Гончаров совершенно иначе, чем революционер Герцен, воспринимает Московский университет той поры. В университете у него обнаружились иные интересы и увлечения. Московский период его жизни характеризуется прежде всего ярко выраженным интересом к театру. Театр на всю жизнь станет любовью Гончарова. Он понимал его тонко, мог профессионально судить как о качестве пьес, так и о мастерстве актёров. Судя по его письмам, романист следил за театральной жизнью Петербурга и Москвы. Бывая за границей, ходил на театральные постановки во Франции, Германии. А началось всё в студенческие годы, в Москве. В 1823 году в старой столице был открыт Малый драматический театр, сыгравший большую роль в культурном становлении автора «Обломова». В 1825 году открылся Большой театр. Официальные названия Малого и Большого московские театры получили не сразу, поначалу их называли так, сравнивая друг с другом, но со временем названия закрепились. Обе театральные труппы еще долго были связаны общей администрацией, общей костюмерной и пр. В Большом ставились в основном оперы и балеты, гораздо реже — драматические спектакли. Москва становится театральной столицей, москвичи — заядлыми театралами. С 1823 по 1831 год московскими театрами руководил драматург и переводчик Фёдор Кокошкин,[93] а с 1831 года — известный исторический романист Михаил Загоскин.[94] Кокошкин был в дружбе со многими профессорами Московского университета, которые были преподавателями Гончарова: с М. Т. Каченовским,[95] А. Ф. Мерзляковым.[96] В 1831 году он пригласил в театральное училище в качестве преподавателя логики, российской словесности и мифологии Н. И. Надеждина.[97] Возможно, именно это и сыграло свою роль в том, что Гончаров стал посещать вечера актрисы Марии Дмитриевны Львовой-Синецкой,[98] которая жила в доме Кокошкина — на скрещении улиц Воздвиженки и Арбатской.[99] Он явился туда вместе со своим университетским товарищем, заядлым театралом Федором Кони,[100] будущим редактором «Театральной газеты», который уже в студенческие годы писал водевили для московского театра и лично для М. Д. Львовой-Синецкой, которая была актрисой Малого театра и играла на сцене вместе со знаменитыми русскими актёрами — Михаилом Семёновичем Щепкиным, Павлом Степановичем Мочаловым.[101] Гончаров имел счастье любоваться игрой этих великих актёров «в их лучшей поре», как писал он в 1876 году П. Д. Боборыкину.[102] Более того, он встречал их в салоне Львовой-Синецкой, где собирались многие известные литераторы и актёры, шли горячие споры об искусстве, читались стихи. Всё это оставило свой глубокий след в душе Гончарова-студента, дало ему заряд на всю жизнь.
Между прочим, в салоне Львовой-Синецкой мы видим Гончарова, о котором не пишут мемуаристы: студент Гончаров веселился от души и даже… танцевал. На вечерах гости много танцевали, и, по собственному признанию Гончарова в очерках «На родине», он любил это делать и в Москве часто открывал танцы мазуркой. Как это не соответствует общепринятым представлениям о писателе, представлениям, составленным под влиянием всегда «солидных», каких-то «чиновничьих» его портретов (и даже фотографий), известных ещё по школьным хрестоматиям. В лице Гончарова постороннему взгляду невозможно прочесть той кипучей внутренней жизни, какую мы видим в его письмах, романах. Оно всегда спокойно, если не сказать — равнодушно. Тем паче что некоторые фотографии выполнены в полный рост, на них Гончаров стоит в какой-то искусственной позе, рядом с неизбежной матерчатой драпировкой, возле каких-то балюстрад с балясинами, со шляпой в руке (изобретения фотографов XIX века)… На этом фоне каким-то особняком стоит портрет работы К. А. Горбунова[103] конца 1840-х годов. В лице Гончарова на этом портрете много жизни, которая вся ещё рвётся наружу, не прячется за «общим выражением лица». Когда после этого портрета смотришь на более поздние фотографии или портрет И. Н. Крамского, понимаешь, какую тяжёлую жизненную школу прошёл писатель, сколько похоронил в себе нерастраченной радости, таланта, счастья, открытых побед… Да, этот Гончаров даже в конце 1840-х годов, когда ему было уже 36–37 лет, вполне мог покружиться в вихре танца. Мог и, как испанец, с гитарой в руках, перебирая струны, запеть перед полюбившейся ему женщиной: «…Ты душа ль моя, красна девица! Ты звезда ль моя ненаглядная! Полюби меня, добра молодца!» Мог поучаствовать в той невинной, но шумной суете ухаживаний за пансионерками Екатерининского института, какая наблюдалась среди молодых мужчин майковского кружка… Тем паче всё это было в студенческие годы в Москве, о которых сохранилось лишь глухое упоминание в романе «Обломов», в разговоре Штольца и Ильи Ильича: «Ты ли это, Илья? — говорил Андрей. — А помню я тебя тоненьким, живым мальчиком, как ты каждый день с Пречистенки ходил в Кудрино; там, в садике… ты не забыл двух сестер? Не забыл Руссо, Шиллера, Гёте, Байрона, которых носил им и отнимал у них романы Коттень, Жанлис… важничал перед ними, хотел очистить их вкус?..»