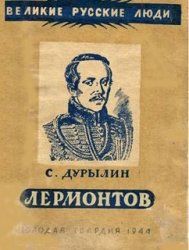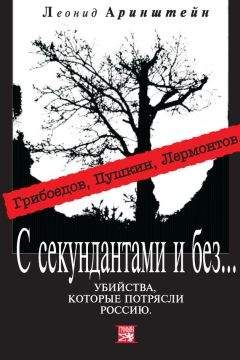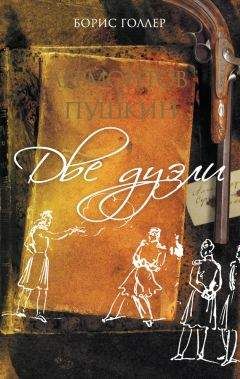Но есть данные» что объяснение между Лермонтовым и Барантом имело еще и другой предмет — особенно дорогой для Лермонтова: имя и честь Пушкина.
Французское посольство давало едва ли не самые блестящие приемы и балы в целом Петербурге. Когда Лермонтов явился в Петербург с Кавказа, на него, по его словам, «была мода»; этой «моде» желал следовать и французский посол. Но в посольстве знали что «модный» Лермонтов два года назад с гневными стихами выступил против француза Дантеса, убийцы Пушкина, благополучно удалившегося во Францию после своего преступления, и сомневались, может ли Лермонтов быть гостем французского посольства. Один из членов посольства запрашивал друга Пушкина, А. И. Тургенева., «правда ли, что Лермонтов в известной строфе своей бранит французов вообще или только одного убийцу Пушкина, что Барант желал бы знать правду?» В конце концов «Барант позвал на бал Лермонтова, убедившись, что он не думал поносить французскую нацию»[24].
Но если в этом убедился французский посол Барант, то его сын Эрнест держался, по-видимому, таких представлений о Пушкине, какие не далеко ушли от презренных мнений его убийцы Дантеса. Офицеру Горожанскому, дежурившему на военной гауптвахте, куда был посажен Лермонтов за дуэль с Барантом, поэт с негодованием говорил, рассказывая о своем разговоре с Барантом: «Je deteste ces chercheurs d’aventures» («Я ненавижу этих искателей приключений») — эти Дантесы и де-Баранты заносчивые сукины дети».[25] Близко знавшая Лермонтова, поэтесса графиня Е. П. Ростопчина решительно свидетельствует: «Спор о смерти Пушкина был причиной столкновения между ним и г. де-Барантом, сыном французского посланника…».[26]
Так уже второй раз в жизни — то железным стихом, то собственной кровью (он был ранен в руку) Лермонтов защищал честь Пушкина.
И светское общество оказалось верно себе: как после дуэли Пушкина оно осаждало голландское посольство, выражая сочувствие послу Геккерну и его приемному сыну Дантесу, в то время как Пушкин умирал от раны, — так теперь то же общество осаждало французское посольство, спеша выразить свое сочувствие послу Баранту и его сыну, ранившему другого русского поэта, в то время как этот поэт, преданный военному суду, сидел в ордонанс-гаузе.
Шеф Жандармов граф Бенкендорф, один из тех, кого Лермонтов казнил в стихах на смерть Пушкина, счел долгом стать на защиту чести Эрнеста Баранта. «Граф Бенкендорф, — пишет Лермонтов великому князю Михаилу Павловичу, — предлагал мне написать письмо к Баранту, в котором бы я просил извиненья в том, что несправедливо показал в суде, что выстрелил в воздух. Я не мог на то согласиться… Ибо, сказав, что выстрелил на воздух, я сказал истину».
Сидя на гауптвахте в ожидании приговора военного суда, Лермонтов написал стихотворения: «Есть речи — значенье», «Соседка», «Пленный рыцарь».
Там, на гауптвахте, посетил его В. Г. Белинский.
Впервые Белинский встретился с Лермонтовым еще летом 1837 года, в Пятигорске, у Сатина, друга Герцена. Но Лермонтов уклонился тогда от сближения с Белинским: как вспоминает Сатин, «на серьезные мнения Белинского он начал отвечать разными шуточками»[27]. В 1838–1839 годах Белинский встречался с Лермонтовым в редакции «Отечественных записок» и пробовал не раз заводить с ним серьезный разговор, но из этого никогда ничего не выходило. Лермонтов всякий раз отделывался шуткой или просто прерывал его, а Белянский приходил в смущение.
«Сомневаться в том, что Лермонтов умен, — говорил Белинский, — было бы довольно странно, но я ни разу не слыхал от него ни одного дельного и умного слова. Он, кажется, нарочно щеголяет светскою пустотою»[28].
Белинский не знал, что эта мнимая «светская пустота» была защитным цветом, в который Лермонтов привык окрашивать себя, обороняясь от «бессмертной пошлости людской», преследовавшей его с первых дней юности.
Свидание в ордонанс-гаузе наконец показало Белинскому истинного Лермонтова.
«В первый раз я видел этого человека настоящим человеком, — с восторгом рассказывал великий критик И. И. Панаеву тотчас после свидания с Лермонтовым. — Я взошел к нему и сконфузился по обыкновению. Думаю себе: ну, зачем меня принесла к нему нелегкая? Мы едва знакомы, общих интересов у нас никаких. Что еще связывает нас немного, так это любовь к искусству, но он не поддается на серьезные разговоры… Я, признаюсь, досадовал на себя и решился пробыть у него не больше четверти часа. Первые минуты мне было неловко, но потом у нас завязался как-то разговор об английской литературе… Я смотрел на него и не верил ни глазам, ни ушам своим. Лицо его приняло натуральное выражение, он был в эту минуту самим собою. В словах его было столько истины, глубины и простоты! Я в первый раз видел настоящего Лермонтова, каким я всегда желал его видеть…Боже мой! Сколько эстетического чутья в этом человеке! Какая нежная и тонкая поэтическая душа в нем!.. Недаром же меня так тянуло к нему. Мне наконец удалось-таки его видеть в настоящем свете, а ведь чудак! Он, я думаю, раскаивается, что допустил себя хоть на минуту быть самим собою!..»[29]
После четырехчасовой беседы с Лермонтовым Белинский писал В. П. Боткину:
«Глубокий и могучий дух! Как он верно смотрит на искусство, какой глубокий и чисто непосредственный вкус изящного! О, это будет русский поэт с Ивана Великого! Чудная натура!.. Перед Пушкиным он благоговеет и больше всего любит «Онегина…» Я с ним спорил, и мне отрадно было видеть в его рассудочном, охлажденном и озлобленном взгляде на жизнь и людей семена глубокой веры в достоинство того и другого. Я это сказал ему, он улыбнулся и сказал: «дай бог!»…Каждое его слово — он сам, вся его натура во всей глубине и целости своей…
Я с ним робок — меня давят такие целостные, полные натуры, я перед ним благоговею и смиряюсь в сознании своего ничтожества… Суд над ним кончен и пошел на конфирмацию к царю. Вероятно, переведут молодца в армию. В таком случае хочет проситься на Кавказ, где приготовляется какая-то важная экспедиция против черкес. Эта русская разудалая голова так и рвется на нож. Большой свет ему надоел, давит его… Так он и рад, что этот случай отрывает его от Питера» [30].
После свидания с Белинским Лермонтов написал большое стихотворение «Журналист, писатель и читатель», в котором выразил свой взгляд на высокие задачи писателя и приподнял завесу, скрывавшую муки и радости своего собственного творчества.
12 апреля 1840 года военный суд приговорил, «лишив его, Лермонтова, чинов и дворянства, записать в рядовые», но, «принимая в уважение, во-первых, причины, вынудившие подсудимого принять вызов на дуэль, на которую вышел не по одному личному неудовольствию с бароном де-Барантом, но более из желания поддержать честь русского офицера», и признавая, что Лермонтов «выстрелил в сторону, в явное доказательство, что он не жаждал крови противника», — суд ходатайствовал перед Николаем I о смягчении наказания Лермонтову.