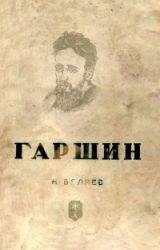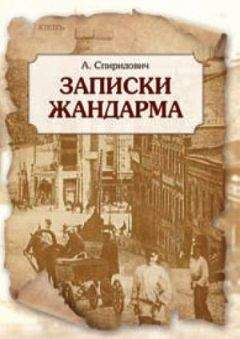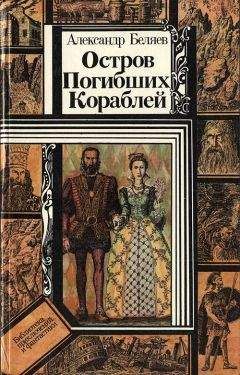Рябинин потрясен. Он решает написать картину "Глухарь". Его искусство должно показать обществу весь ужас человеческого угнетения. Нужно закричать на всю страну о позоре, о несправедливости строя, в котором возможна подобная эксплуатация человека человеком.
Картина захватывает Рябинина. По мере того как подвигается работа художника, его душой все сильнее овладевает смятение. Образ несчастного рабочего преследует его день и ночь. "Вот он сидит передо мной в темном углу котла, — скорчившийся в три погибели, одетый в лохмотья, задыхающийся от усталости человек. Его совсем не было бы видно, если бы не свет, проходящий сквозь круглые дыры, просверленные для заклепок. Кружки этого света пестрят его одежду и лицо, светятся золотыми пятнами на его лохмотьях, на всклоченной и закопченной бороде и волосах, на багрово-красном лице, по которому струится пот, смешанный с грязью, на жилистых, надорванных руках и на измученной широкой и впалой груди. Постоянно повторяющийся страшный удар обрушивается на котел и заставляет несчастного "глухаря" напрягать все силы, чтобы удержаться в своей невероятной позе…
"Я вызвал тебя из душного, темного котла, чтобы ты ужаснул своим видом эту чистую, прилизанную, ненавистную толпу. Приди, силой моей власти прикованный к полотну, смотри с него на эти фраки и трены, крикни им: "Я — язва растущая!" Ударь их в сердце, лиши сна, стань перед их глазами призраком! Убей их спокойствие, как ты убил мое…"
Однако Рябинин знает, что его картина ничего не изменит, что "общество", к которому он апеллирует, останется глубоко равнодушным к взволновавшей и перевернувшей ему душу теме:
"Картина кончена, вставлена в золотую рамку, два сторожа потащат ее на головах в академию на выставку. И вот она стоит среди "Полдней" и "Закатов", рядом с "Девочкой с кошкой", недалеко от какого-нибудь трехсаженного "Иоанна Грозного, вонзающего посох в ногу Васьки Шибанова". Нельзя сказать, чтобы на нее не смотрели; будут смотреть и даже хвалить. Художники начнут разбирать рисунок. Рецензенты, прислушиваясь к ним, будут чиркать карандашиками в своих записных книжках. Один г. В. С. выше заимствований: он смотрит, одобряет, превозносит, пожимает мне руку. Художественный критик Л. с яростью набросится на бедного "Глухаря", будет кричать: "Но где же тут изящное, скажите, где тут изящное?" И разругает меня на все корки. Публика… Публика проходит мимо бесстрастно или с неприятной гримасой: дамы — те только скажут: "Ah, comme il est laid ce [9] "глухарь", и поплывут к следующей картине, к "Девочке с кошкой", смотря на которую, скажут: "Очень, очень мило", или что-нибудь подобное. Солидные господа с бычьими глазами поглазеют, потупят взоры в каталог, испустят не то мычание, не то сопение и благополучно проследуют далее. И разве только какой-нибудь юноша или молодая девушка остановятся со вниманием и прочтут в измученных глазах, старадальчески смотрящих с полотна, вопль, вложенный мною в них".
Какой же выход? Рябинин приходит к решению вопроса в духе писаревской эстетики, впоследствии односторонне подхваченной народниками. Нужно бросить бесполезное искусство и идти в учителя, чтобы хоть чем-нибудь помочь народу.
Однако сам Гаршин чувствует всю фальшь и недостаточность такого решения. Вот почему он кончает рассказ словами, что и на этом поприще Рябинин "не преуспевал". Гаршин обещает вернуться к судьбе Рябинина в другом рассказе, но к этой теме он больше уже не возвращался.
Гаршин не дожил до того времени, когда он мог бы увидеть и указать Рябинину другой путь — настоящий путь освобождения "глухарей" и всего рабочего класса от ужаса угнетения.
Борьба двух течений в русской живописи, которые символически представлены в рассказе Рябининым и Дедовым, в тот период обозначилась особенно ярко. Друзья Гаршина, художники Ярошенко и Савицкий, выступили с картинами, посвященными острым социальным темам. Ярошенко выставил картины "Кочегар", "Невский проспект ночью", "Причины неизвестны" и другие, Савицкий — картины "На войну", "Беглый", "Крючники". Свои картины они показывали на тех же выставках, где Перов и Прянишников выступали с "Птицеловами", "Рыболовами", "Охотниками".
Симпатии Гаршина были всецело на стороне Ярошенко и Савицкого. Картина "Кочегар" вызвала глубокое восхищение Гаршина и, по словам некоторых биографов, именно она вдохновила Гаршина написать "Художников".
Мыслям о задачах искусства, высказанным в "Художниках", Гаршин оставался верен всю жизнь.
В отзывах о художественных выставках он резко критиковал живописцев, уходящих от острых тем жизни в "чистое" искусство, в пейзажи, натюрморты, и "невинные" сюжеты.
"Много раз уже было замечено, — писал Гаршин, — что пейзажная живопись у нас сделала больше, сравнительно с жанром, успеха. Что за причина этому явлению? Неужели бедность русской жизни и истории драматическими моментами, достойными перейти на полотно? Нет, этому нельзя поверить! Причина лежит не в бедности сюжетов, а скорее в самих художниках. Они, как и вся наша интеллигенция, в большинстве случаев настолько оторваны от родной почвы, настолько мало знакомы с русской жизнью, что сродниться с сюжетом русским, родным, прочувствовать его для них дело весьма хитрое".
Писательница Л. И. Микулич, как-то, гуляя с Гаршиным в саду, спросила у него, видел ли он сам работу "глухарей". Гаршин ответил: "Да, я был на заводе".
Попутно разговор зашел на модную тогда тему о необходимости "любить всех и все". Писательница добавила иронически: "Не трудно любить былинку, за что ее не любить? Трудно любить тех, кто причиняет зло существам, любимым нами".
Гаршин задумался и решительно ответил: "Да, это правда. Если я люблю "глухаря", как я могу любить тех, кто упрятал его в этот страшный котел?"
Дальше Гаршин стал развивать мысль, что ответственность за положение "глухарей" несет общество. Зло существует потому, что общество относится к нему равнодушно, терпит его. "Конечно, мы сами создаем весь ад, все страдания нашей жизни", горячо доказывал Гаршин.
Почти в одно время с "Художниками" Гаршиным была написана сказка "Attalea princeps" — о гордой пальме, боровшейся в одиночестве за свободу.
Образ гордой пальмы, томящейся в стеклянной клетке оранжереи, приходил ему в голову не раз. Еще в начале 1876 года, когда молодей студент сам, точно невольник в тюрьме, томился вынужденным бездействием, когда его юношеский энтузиазм и жажда подвигов в борьбе за свободу угнетенного человечества еще не нашли неожиданного выхода в кровавых боях на Балканском полуострове, Гаршин написал на эту тему стихотворение "Пленница".
Прекрасная пальма высокой вершиной
В стеклянную крышу стучит;
Пробито стекло, изогнулось железо,
И путь на свободу открыт.
И отпрыск от пальмы султаном зеленым
Поднялся в пробоину ту;
Над сводом прозрачным, под небом лазурным
Он гордо глядит в высоту.
И жажда свободы его утолилась.
Он видит небесный простор,
И солнце ласкает (холодное солнце!)
Его изумрудный убор.
Средь чуждой природы, средь странных собратий,
Средь сосен, берез и елей
Он грустно поникнул, как будто бы вспомнил
О небе отчизны своей.
Отчизны, где вечно природа пирует,
Где теплые реки текут.
Где нет ни стекла, ни решеток железных,
Где пальмы на воле растут.
Но вот он замечен; его преступленье
Садовник исправить велел —
И скоро над бедной прекрасною пальмой
Безжалостный нож заблестел.
От дерева царский венец отделили,
Оно содрогнулось стволом,
И трепетом шумным ответили дружно
Товарищи-пальмы кругом.
И снова заделали путь на свободу,
И стекла узорчатых рам
Стоят на дороге к холодному солнцу
И бледным чужим небесам.
В сказке "Attalea princeps" разработан тот же сюжет, но здесь мотив о пальме, рвущейся на свободу, звучит острее и революционней, и сама сказка создана рукой замечательного художника.