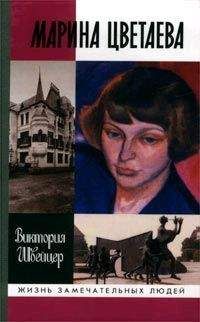Мур рос такой же «другой», как и сама она: по-своему он тоже был «белой вороной». Цветаева считала, что она «вкачала» в сына «всю Русь», и была по-своему права. Тем не менее его соученицы по болшевской школе заблуждались, говоря о его «внутреннем сугубо русском мире»: Георгий Эфрон вырос человеком французской культуры; он смотрел на мир, на людей и отношения между ними, на политические события и даже на повседневность глазами европейца. Его восприятие жизни, не совсем обычная речь и непривычная советскому человеку манера поведения – все отчуждало его от окружающих. Он резко выделялся не только среди сверстников, но и среди взрослых. Со своим острым взглядом, умом и ироничностью Мур лучше мог оценить людей, чем они способны были понять его. Когда-то Цветаева боялась, что в России у нее «отберут» сына. Оказалось – некому, заинтересованных лиц (кроме военкомата, но, к счастью, уже после ее смерти) не нашлось. Он был уникум и, обращая на себя внимание, вызывал не столько заинтересованность, сколько любопытство.
Сама его «русскость», которой гордилась Цветаева, была необычной, как бы устаревшей, ведь она «вкачивала» давно исчезнувшую Русь. Свою русскую культуру Мур открывал для себя уже в России. Он собирал библиотечку советской поэзии и литературной критики; по-новому читал и перечитывал русскую классику. Его русский художественный вкус начал стремительно развиваться, и Москва давала такую возможность: Мур слушал концерты в Консерватории и Зале имени Чайковского, ходил на выставки, с помощью тетки Елизаветы Яковлевны видел интересные спектакли в театрах... Вряд ли в Париже Эфроны могли бы позволить себе это. Его интересы в музыке, искусстве, в русской и европейской поэзии и прозе (многое он читал в оригинале) взрослели.
Прежде мне казалось, что Мур не мог понимать Цветаеву, привыкнув к ней как к своей собственности, просто не думал о ней отдельно. Но догадывался ли он, что представляет собою его мать? Знал ли, как маленькая Аля, что Марина «не как все», что она и не может быть «как все»? Теперь я уверена: ощущал уже в раннем детстве. Вот одна из цветаевских записей – Муру четыре с половиной года:
«(В ответ на мои стихи:
Небо – синей знамени,
Сосны – пучки пламени...)
– Синее знамя? Синих знамен нет. Только у кана́ков. Пучки пламени? Но ведь сосны – зеленые. Я так не вижу, и никто не видит. У Вас белая горячка: синее знамя, красные сосны, зеленый змей, белый слон.
Как? Вы не любите красивой природы? Вы – сумасшедшая! Ведь все любят пальмы, синее море, горностай, белых шпицев.
Для кого Вы пишете? Для одной себя, Вы одна только можете понять, п<отому> ч<то> Вы сама это написали!» Мур не читал еще русской прессы, иначе можно было бы подумать, что он повторяет некоторых критиков. Однако мальчик чувствовал, что его мать видит мир по-своему. Не подозревал ли он втайне, что она «колдунья»? Так назвала мне однажды Цветаеву Ариадна Сергеевна, противопоставляя мать ее сестрам – «ведьмам».
Цветаева с Муром собираются на прогулку и она поторапливает сына:
«—Скорей! Скорей, Мур, а то солнце уйдет – и мы останемся!
(Одевая, бормочу какие-то стихи) Мур: – Только не думайте, что Ваши стихи остановят солнце!»
Как многим детям, ему хотелось, чтобы мать занималась чем-то более понятным и близким его интересам. В пять лет, страстно увлекшись тракторами и машинами, мечтая «жениться на тракторе», Мур спросил: «Мама! Для чего Вы стали писательницей, а не шофером и не другим таким?»
Начав учиться в школе, сравнивал мать с учительницей: «Вот я сегодня глядел на учительницу и думал: – Вот у нее есть какая-то репутация, ее знают в обществе, а мама – ведь хорошо пишет? – А ее никто не знает, п<отому> ч<то> она пишет отвлеченные вещи, а сейчас не такое время, чтобы (писать) читали отвлеченные вещи. Так что же делать? Она же не может писать другие вещи». К девяти годам Мур принял это открытие: его мать – поэт, а поэта ничто не может заставить писать по-другому.
Думая об этом, я яснее представляю себе отношение Мура к рецензии К. Зелинского, «зарубившей» цветаевский сборник. Окунувшись в жизнь после болшевского затворничества, Мур скорее, чем Цветаева, сориентировался в советской повседневности и в положении советской литературы, понял сущность «социалистического реализма» и несовместимость с ним «отвлеченных вещей» Марины Цветаевой. Он читал, собирал и любил стихи советских поэтов; ему нравятся и Асеев, и Кирсанов, и Долматовский! Это чтение наглядно подтверждало, что так писать Цветаева не может. Мур видит разницу, но ощущает ли дистанцию между их стихами и цветаевской Поэзией? Знакомство с критикой, которую Мур внимательно изучал, дало представление о том, как обязан работать советский критик. Гослиту требуется «отклонить» книгу Цветаевой – Зелинский выполняет этот заказ. Мур оправдывает его (может быть, это проявление молодого цинизма?) тем, что иного выхода у критика нет: «...конечно, я себе не представляю, как Гослит мог бы напечатать стихи матери – совершенно и тотально оторванные от жизни и ничего общего не имеющие с действительностью. [Цветаеву возмутило бы это высказывание: разве поэзия призвана отражать действительность?! – В. Ш.] Вообще я думаю, что книга стихов – или поэм – просто не выйдет. И нечего на Зелинского обижаться, он по-другому не мог написать рецензию. Но нужно сказать к чести матери, что она совершенно не хотела выпускать такой книги, и хочет только переводить».
Когда при встрече в Ташкенте Зелинский поспешил объяснить, «что инцидент с книгой М. И. был „недоразумением“ и т<ак> д<алее>...» – Мур уже понимал, что представляет собой Зелинский, и саркастически комментировал: «я его великодушно „простил“. Впрочем, он настолько закончен и совершенен в своем роде [в безнравственности, по цветаевскому определению. – В. Ш.], что мы с ним в наилучших отношениях, – и ведь он очень умный человек».
Это уже другой Мур, переживший смерть матери, оставшийся с глазу на глаз с необходимостью выживать в одиночку в военное время. Он стал взрослым в день ее смерти. Хотя, по словам Мура, Цветаева неоднократно говорила о возможности для себя такого выхода, ее самоубийство не могло не потрясти его. И первые его поступки производят впечатление судороги: не увидеть мертвое тело, уйти из дома, где случилось несчастье, отодвинуть его, чтобы еще какое-то время не принять, как будто ничего не случилось... Ему лишь только шестнадцать лет. Возможно, и на похороны он не смог пойти из страха и инстинкта самосохранения. А мы десятилетиями его осуждали...
Читая его письма и выдержки из дневников, я начинаю понимать Георгия Эфрона. Я помню свой столбняк, когда М. С. Петровых рассказала мне о встрече с Муром в писательской столовой в Чистополе: он подошел к ее столику и, не дожидаясь вопроса, спокойно и твердо сказал: «Марина Ивановна повесилась». Это сообщение из уст Мура многие помнили и возмущались его бездушием. А чего от него ждали? Что он дрожащим голосом произнесет: «Мама (или мамочка?) умерла...»? Но ведь это для них с Алей она «мама», «мать», «мамахен», а для посторонних – Марина Ивановна, Марина Цветаева. Даже в письмах близким Мур иногда называет ее так. Тетке Елизавете Яковлевне: «Надеюсь, они не станут отрицать наличия у них книг Марины Ивановны». Муле Гуревичу, которого считал членом семьи: «Я вспоминаю Марину Ивановну...» И еще: «У С<ергея> Яковлевича>...», «У М<арины> И<вановны>...» И даже – Але: «...мы не имеем просто права скрывать от тебя смерть М<арины> И<вановны>»; «Марина Ивановна всегда хотела деятельности...» Нужно душевное усилие, чтобы понять, какую боль он скрывал, называя мать этим именем. В одном из писем Муле Гуревичу Мур признавался – в ответ на ощущаемые им невысказанные и в предвидении будущих нареканий: «Самое тяжелое – одинокие слезы, а все вокруг удивляются – какой ты черствый и непроницаемый».