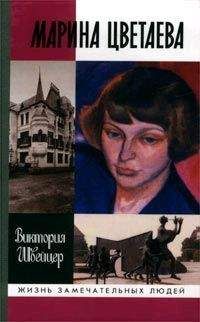Л. М. Бродская рассказывала мне, как, проездом через Ташкент, она на улице встретила Мура – об этом и он упоминает в письме от 31 мая 1943 года – и с трудом узнала его. Это был совсем не тот красивый и щеголеватый подросток, которого она знала по Москве, а юноша в сильно потрепанной одежде, с опущенной головой, одутловатым лицом и распухшими красными руками, в которых он держал кулечек с «подушечками» и жадно их ел. Было очевидно, что он заброшен и голоден. «Мур, кто же ест конфеты просто так?» – спросила Лидия Максимовна, «потащила» его на базар и купила ему банку молока...
Мур старается противостоять судьбе, желающей превратить его в люмпена. Он боится потерять здоровье, окончательно оборваться, стать грязным, перестать чувствовать себя человеком своего уровня, опуститься. Боится, что его поглотит ненавистная «низовка», с которой он уже успел соприкоснуться.
Летом 1942 года Мур сорвался. Весь июнь он был «в почти-абсолютно голодном состоянии», как написал он тетке Елизавете Яковлевне, объясняя «катастрофу». Он украл и продал что-то из вещей своей квартирной хозяйки – рублей на 800. Кража обнаружилась; Мура арестовали, он пишет тетке о «кошмарном уголовном мире», в котором «пробыл 28 часов». Ему грозил суд: конец мечтам об окончании школы, высшем образовании и достойной человеческой жизни. Надежда спастись была – если милиция не передаст дело в суд. К счастью, хозяйка согласилась подождать, чтобы он в течение четырех месяцев выплатил сумму, которую она потребовала. Милиция не возражала. У Мура хватило сил признаться теткам и Муле Гуревичу и просить помощи. Он понимал, как сложно обращаться к кому бы то ни было чужому в этой трагической и щекотливой ситуации. Возможно, с этим событием связано отдаление Мура от Ахматовой: 21 июля он в письме Елизавете Яковлевне называет ее как человека, к которому он мог бы обратиться (но она «сидит без денег»), а в сентябре пишет Але: «Было время, когда она мне помогала; это время кончилось. Однажды она себя проявила мелочной, и эта мелочь испортила всё предыдущее; итак, мы квиты – никто ничего никому не должен. Она мне разонравилась, я – ей».
Что думала тетка по поводу этой катастрофы? Очевидно, ей было страшно за него, она понимала возможность жестоких последствий. Письмо, где Мур сообщает ей подробности, лишено какого бы то ни было желания «бить на жалость», а – удивительно для семнадцати лет – спокойно, трезво и твердо излагает сначала практическую, а затем моральную сторону дела:
«Я всё постигаю на собственном опыте, на собственной шкуре, – все истины.
До Ташкента я, фактически, не жил – в смысле опыта жизни, – а лишь переживал: ощущения приятные и неприятные, восприятия красоты и уродства, эстетически перерабатываемые воображением. Но непосредственно я с жизнью не сталкивался, не принимал в ней участия. Теперь же я «учусь азбуке», потому что самое простое для меня – самое трудное, самое сложное.
В Ташкенте я научился двум вещам – и навсегда: трезвости и честности. Когда мне было очень тяжело здесь, я начал пить. Перехватил через край, почувствовал презрение и отвращение к тому, что я мог дойти до преувеличения – и раз-навсегда отучился пить. <...>
Так же и в отношении честности. Чтобы понять, что «не бери чужого» – не пустая глупость, не формула без смысла – мне пришлось эту теорему доказать от противного, т. е. убедиться в невозможности отрицания этой истины. Конечно, делал я всё это отнюдь не «специально» – но в ходе вещей выяснилась вся внутренняя подноготная. Так я постиг нравственность».
Это признание достойного и ответственного человека, каким видела сына Цветаева. После 1941 года, который Мур считал «переломным», потому что «умерла мама», история с кражей оказалась еще одним переломом: он физически ощутил, как просто скатиться на дно жизни. Общими усилиями близкие вытащили Мура из беды: Елизавета Яковлевна и Самуил Давыдович начали высылать деньги, Мур еще больше экономить, и до конца 1942 года долг был выплачен. Милиция сдержала обещание: дело «похоронили»...
Мур неуклонно отстаивает свою внутреннюю жизнь и свободу, бьется за свое место в мире, упорно не дает наступающей на него реальности затоптать себя – это для него самое важное.
Удивительна интенсивность его интеллектуальной жизни – здесь он прямой наследник своей матери. Он не перестает писать в разных жанрах: стихи, роман, критика, переводы... Особое значение Мур придает своему дневнику, видя в нем подготовку к будущей прозе. Чтение становится почти смыслом его теперешней жизни. Он – постоянный читатель писательской и школьной библиотек: не как школьник, хватающийся за любую книгу, а сознательно организуя свое чтение, зная, что именно он хочет или ему необходимо прочесть. Он следит за журналами, особенно за «Интернациональной литературой»; у него «блат» в школьной библиотеке, и ему дают этот журнал вне очереди. Он читает и перечитывает самых разных писателей, горюет, что некоторые любимые книги нельзя достать в оригиналах. Чтение оказывается важнейшей темой его переписки с сестрой. Особенно интересует Мура современная западная литература. Трудно перечислить писателей, о которых Мур упоминает в письмах Але: около тридцати зарубежных и примерно двадцать пять русских и советских писателей и поэтов. Не просто упоминает – о каждом у него есть определенное мнение; каждый занимает свое место в его иерархии и в его истории литературы. Он мечтает написать общественно-политическую историю Франции и французской литературы: «Это – моя область». Он твердо намерен стать переводчиком и критиком, связующим звеном между Россией и Францией. То, как Мур анализирует прочитанное, свидетельствует о его глубоком интересе и понимании. Книги – его моральное спасение и подготовка к будущему. Когда-то Цветаева писала, что у ее сына сильное чувство судьбы. Вот и в Ташкенте, противостоя жизненным невзгодам, Мур продолжает верить в свою звезду, в судьбу, которая должна же в конце концов повернуться к нему лицом.
Он обнадеживает себя и Алю, что они доживут до встречи и им удастся воссоздать семью. Эти мечты разбиваются о советскую реальность. В первых числах января 1943 года в Ташкенте Мур был призван на действительную военную службу – подошел срок мальчиков, родившихся в 1925 году. И тут его настигло клеймо члена семьи врагов народа. По горячим следам он написал Муле (конечно, с оказией, такое письмо никто не решился бы отправить по почте), что ему не с кем было посоветоваться в этот жизненно важный момент; он не знал, должен ли написать в анкете, что до 1939 года жил за границей и что отец и сестра его арестованы. Он заполнил анкету честно и получил назначение в Трудовую армию – место почти такое же страшное, как штрафной батальон. Его не пустили ни в военное училище, куда он просился, ни в пехоту. Мур пытался добиться другого назначения, пошел в призывную комиссию с документами матери, свидетельствовавшими, что он – «действительно советский человек и в Ташкенте очутился не случайно». Бесполезно. В эти «трагические для меня дни» Мур сообщает о случившемся Муле и сестре. Он приводит слова комиссии: «В училище мы вас направить не можем никак; эта возможность исключена». В письме Але проскальзывают слова: «ввиду моих обстоятельств», «моя статья», «вообще, вероятно, моя дальнейшая судьба будет схожа с твоей...» (выделено мною. – В. Ш.).