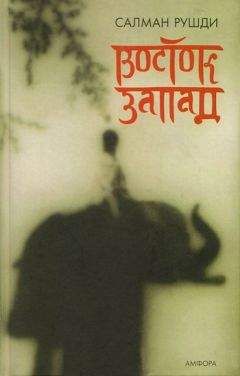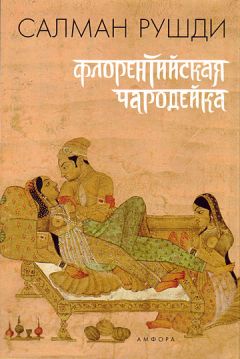стороны, не обнаружено. “Иранское правительство гарантировало нам, что будет пресекать любые исходящие из Ирана попытки напасть на вас. Они понимают, что речь идет об их престиже”. Символическое значение телевизионной картинки, на которой Кук и Харрази стояли бок о бок, было оценено в полной мере, ее показали во всех мусульманских странах мира, “и если вас, говоря напрямик, убьют, доверие к ним резко уменьшится”. Кук добавил: “Мы не считаем, что это дело завершено. Будем и дальше оказывать давление, будем ждать новых результатов”.
И затем министр иностранных дел Соединенного Королевства задал ему вопрос, на который нелегко было дать ответ.
– Зачем вам нужна кампания защиты, направленная против меня? – спросил Робин Кук. – Я готов предоставить вам прямой доступ ко мне плюс регулярные брифинги. Я борюсь за вас.
Он ответил:
– Потому что многие думают, что вы меня предали, что слабое соглашение выдается за сильное и что мной жертвуют ради коммерческих и геополитических выгод.
– О-о, – презрительно протянул Кук. – Они думают, что мной командует Питер Мандельсон. (Мандельсон занимал пост министра торговли и промышленности.) – Это не так, – продолжил он и, по существу, повторил сказанное Дереком Фатчеттом: – Вы должны мне доверять.
Он молчал, молчал долго, Кук не торопил его. Не дурачат ли меня, задавался он вопросом. С тех пор как он кричал Майклу Аксуэрди, что его предали, прошло всего несколько дней. Но два политика, которые ему нравились, которые боролись за него активнее, чем кто-либо другой за десятилетие, попросили его верить им, хранить самообладание и, самое главное, на какое-то время умолкнуть.
– Если вы помянете недобрым словом фонд “15 хордада”, это будет для фонда большим подарком, потому что тогда иранское правительство не сможет ничего против него предпринять: побоится создать впечатление, будто оно действует по вашей указке.
Он думал и думал. Кампания защиты была начата для того, чтобы побороть инертность правительств. Но теперь правительство его собственной страны обещает принимать ради него энергичные меры. Может быть, назрел переход к новой стадии: действовать не против правительства, а заодно с ним?
– Хорошо, – сказал он, – я согласен.
Он поехал в “Статью 19” к Фрэнсис Д’Соуса и попросил ее прекратить кампанию. Кармел Бедфорд была в Осло на встрече представителей нескольких комитетов защиты, и, когда он ей позвонил сообщить о своем решении, она взорвалась и обвинила в этом решении Фрэнсис: “Она проходит конкурс на должность в Форин-офисе! Вышла в последний тур! В ее интересах поставить на этом крест!” С некоторых пор Фрэнсис и Кармел плохо ладили между собой. Он уверился, что принял правильное решение.
Итак, кампания защиты Рушди прекратилась. “Будем надеяться, – писал он в дневнике. – Мое решение обоснованно. Так или иначе, оно мое. Я не могу винить никого другого”.
ИРАНСКИЕ КРЕСТЬЯНЕ ПРЕДЛАГАЮТ НАГРАДУ ЗА ГОЛОВУ РУШДИ. Жители одной иранской деревни близ Каспийского моря пообещали вознаградить того, кто убьет Салмана
Рушди, землей, домом и коврами. “Деревня Кийапай даст в награду 4500 квадратных метров земли, пригодной для ведения хозяйства, плодовый сад в 1500 квадратных метров, дом и десять ковров”, -сказал местный представитель. Кроме того, две тысячи жителей деревни открыли банковский счет для сбора пожертвований.
Не всегда легко было хранить спокойствие, хранить молчание и хранить самообладание.
Он поехал в Нью-Йорк на съемки французского телефильма о “Земле под ее ногами”. И тут же мир для него открылся. Он ходил по улицам в одиночку и не чувствовал никакой опасности. В Лондоне осторожность британских разведслужб сковывала его, но тут, в Нью-Йорке, его жизнь была всецело в его руках; он сам мог решать, что разумно, а что опасно. В Америке он мог вновь обретать утраченную свободу до того, как британцы сочтут, что пора ее ему возвратить. Свобода не дается, а берется. Он знал это. И ему надлежало действовать в соответствии с этим знанием.
Билл Бьюфорд в головном уборе под марсианина из фильма “Марс атакует!” повез его на Верхний Манхэттен на хэллоуинский ужин. А у него на голове была куфия, в одной руке он держал детскую погремушку, в другой – хрустящую булочку; он был, таким образом, един в трех лицах: Шейх, Погремушка и Булочка из детской рождественской пьесы.
В Лондоне праздновали семидесятилетие Жанны Моро [248], и, вернувшись, он получил приглашение в резиденцию французского посла на обед в ее честь. Он сидел между Моро, по-прежнему ослепительной и даже соблазнительной в свои семьдесят, и великой балериной Сильви Гиллем, которая сказала, что хочет посмотреть спектакль по “Гаруну”. А Моро оказалась потрясающей raconteuse [249]. За столом сидел еще некий сотрудник посольства, чьей задачей было подбрасывать ей удобные вопросы:
– А теперь мы просим вас говорить, как вы познакомились с нашим великим французским кинорежиссером Франсуа Трюффо.
Она подхватывала на лету:
– Ах, Франсуа… Вы знаете, это было в Каннах, я была там с Луи…
– Это наш еще великий французский режиссер Луи Маль…
– Да, Луи, и мы с ним в Palais du Cinema [250], и Франсуа, он идет к нам и здоровался с Луи, а потом некоторое время они вместе, а я иду позади с другим мужчиной, а потом я уже шла с Франсуа, и это очень странно, потому что он не смотрит мне в лицо, всегда в пол, только иногда быстро вверх, а потом опять вниз, но наконец он глядит на меня и сказал: “Могу ли я узнать ваш номер телефона?”
– И вы, – подытожил сотрудник, – давали ему номер.
Тут он перехватил инициативу и спросил ее про работу с Луисом Бунюэлем в фильме “Дневник горничной”.
– Ах, дон Луис… – начала она своим глубоким, гортанным голосом курильщицы. – Он моя любовь. Я говорю ему однажды: “Ох, дон Луис, если бы я была вашей дочерью!” А он мне: “Нет, моя дорогая, вам не надо этого желать, будь вы моя дочь, я бы вас запер и не позволял сниматься в кино!”
– Я с давних пор люблю песню, которую вы поете в “Жюле и Джиме”, – сказал он ей за бокалом “шато бешвель”. – Le Tourbillon [251]. Это старая песня или ее написали для фильма?
– Ни то ни другое, – ответила она. – Ее написали для меня. Это был, вы знаете, мой старый возлюбленный, и, когда мы расстались, он пишет эту песню. А потом, когда Франсуа говорит, что я должна петь, я предлагаю эту песню ему, и он согласен.
– А теперь, – спросил он, – когда это такая знаменитая кинематографическая сцена, вы как о ней думаете? В