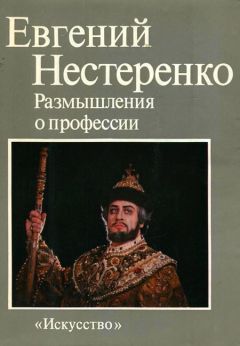Многие романсы, песни или оперы, мягко говоря, написаны на не самые лучшие тексты. Это таит довольно большую опасность для певцов. Поэт, слабо владеющий стихотворной техникой, вставляет иной раз слово просто для рифмы или для соблюдения размера стиха; а певец это слово, совершенно неуместное в данном тексте, начинает «интерпретировать». Вспомним, к примеру, Нестора Васильевича Кукольника, поэта, как известно, дружившего с Михаилом Ивановичем Глинкой. Многие романсы Глинки написаны на его стихи, причем Глинка иногда сочинял музыку, а Кукольник потом создавал для нее текст. Такой способ сочинения в практике Глинки встречается нередко. Так, барон Розен сочинил текст к уже готовым кускам «Ивана Сусанина». О Розене говорить не приходится, тот вообще плохо владел русским языком. А Кукольник, видимо, иной раз сочинял стихи на скорую руку, в них нередко встречается просто набор слов. Например, в «Попутной песне» — «Не воздух, не зелень страдальца манят…», в баркароле «Уснули голубые» — «И вам покою, волны, страдалец не дает…», в «Сомнении» — «Я плачу, я стражду…», то есть слова «страдание», «страдалец» для него весьма характерны. И вот певец «клюет» на это слово и начинает его «подавать». А если разобраться — при чем «страдалец» в «Попутной песне»? Или откуда появился «страдалец» в «Баркароле», когда все произведение — это упоение радостью жизни, южной венецианской ночью, причем, на мой взгляд, упоение не итальянца, а русского человека, очутившегося в Италии после промозглого, холодного северного Петербурга. Возможно, «страдалец» было просто расхожим словом у Кукольника и доискиваться смысла тут не стоит. Смысл и чувства нужно искать в музыке.
Или вот романс Чайковского «Нет, только тот, кто знал», написанный на слова Гете в переводе Льва Александровича Мея. Произведение полно любовного томления. В тексте же читаем: «Нет, только тот, кто знал свиданья жажду, поймет, как я страдал и как я стражду…» Видимо, в данном случае Мей просто подбирал рифму к словам «знал» и «жажду». В музыке Чайковского, как мне кажется, чувствуется скорее истома, а вовсе не страдание. Читаем дальше: «Гляжу я вдаль, нет сил, тускнеет око, ах, кто меня любил и знал, далеко…» И вот это «тускнеющее око» — всего лишь рифма к слову «далеко» — наводит некоторых певцов на мысль о каком-то ужасном переживании, от которого даже потускнел один глаз. Лишь вслушиваясь в музыку, понимая смысл стихотворения, певец сможет передать в этом романсе не страшное страдание, а необыкновенное переживание, доступное лишь тем, кто способен любить.
Кроме внимательной работы с литературной первоосновой музыкального произведения полезно знать и другие произведения, написанные на тот же текст или вдохновленные данным сюжетом. Сопоставляя их, яснее видишь, как представляет себе эту тему каждый композитор, что именно его привлекло. Скажем, если артист исполняет роль Мефистофеля в опере Гуно «Фауст», ему надо внимательно изучить великую трагедию Гете, но не мешает знать и оперу А. Бойто «Мефистофель» и оперу-ораторию Г. Берлиоза «Осуждение Фауста», не говоря уж о «Песнях о блохе», написанных на гетевский текст Бетховеном и Мусоргским. Кроме произведений вокальных существуют и произведения оркестровые, инструментальные, связанные с «Фаустом». А как в таком случае обойти вниманием произведения других писателей, затрагивающих ту же тему, — «Сцену из „Фауста“ Пушкина или „Мастера и Маргариту“ М. А. Булгакова, постановки в драматических театрах?» Для меня как исполнителя роли Мефистофеля в операх Гуно, Берлиоза и Бойто был очень интересным и поучительным фильм-экранизация Дюссельдорфского драматического театра «Фауст» (постановщик и исполнитель роли Мефистофеля Густав Грюндгенс), особенно грим и пластическое решение образа духа зла.
Всегда полезно познакомиться с историей создания как литературного первоисточника, так и музыкального произведения, им вдохновленного: когда и почему создана Пушкиным трагедия «Борис Годунов» и по какой причине и в каких условиях писалась Мусоргским его первая народная музыкальная драма? Кто зажег в душе Пушкина огонь, излившийся в гениальном «Я помню чудное мгновенье», и кому посвящен романс того же названия, сочиненный Глинкой? А уж если брать оптимальный вариант, надо не только изучать историю создания произведений и знать биографию композитора, но хорошо бы представлять его себе как живого, знакомого человека и творца.
Проблема работы над текстом достаточно тесно связана с проблемами произнесения этого текста.
Вопросам певческого произношения, включая такие важные моменты, как дикционная четкость, художественная выразительность, соответствие правилам орфоэпии, в последнее время в наших учебных заведениях, театрах и концертных организациях уделяется довольно мало внимания. В результате мы слышим в одном спектакле или концерте самые разнообразные (в зависимости от того, из какой части страны приехал певец) отклонения от норм русской литературной речи, плохо понимаем текст, недостаточно отчетливо произносимый вокалистами. Что же касается пения на иностранных языках, то в подавляющем большинстве случаев оно, мягко говоря, далеко от совершенства, а примеры использования произношения как средства художественной выразительности можно перечесть по пальцам.
В программах и учебных планах вокальных факультетов музыкальных училищ и вузов нашей страны существует дисциплина «Культура речи». Но, как показывает практика, даже в тех учебных заведениях, где этот предмет ведется, методика его преподавания оставляет желать лучшего. В существующей же вокально-методической литературе вопросы эти не систематизированы, крайне редко привлекают внимание певцов и, что еще прискорбнее, педагогов учебных заведений, дирижеров, режиссеров, пианистов-концертмейстеров. А ведь именно эти люди должны следить и за орфоэпией в пении и за тем, чтобы произношение вокалистов было не только безупречным в смысле четкости и ясности, но и способствовало созданию художественного образа.
Если в учебном заведении в классе сольного пения произношение студента все же находится под контролем его педагога, то в театре, в концертной организации такими контролерами певца должны стать дирижер, режиссер и концертмейстер. К сожалению, не могу вспомнить почти ни одного случая из практики последних лет, когда на нашей оперной или концертной сцене, в нашей печати уделялось бы внимание правильности и выразительности певческого произношения. Но я помню, как в годы моей работы в Ленинграде концертмейстеры старой школы были очень требовательны не только к музыкально-вокальной стороне пения, но и к чистоте и выразительности языка. А дирижеры! С каким упоением любовался красотами русской речи С., В. Ельцин, как много нового открывалось нам на репетициях Э. П. Грикурова и К. А. Симеонова, когда в слове вдруг начинала трепетать человеческая душа…