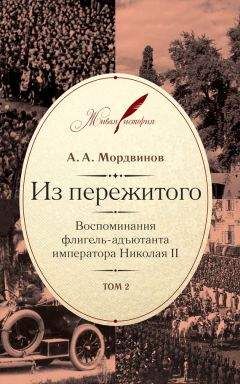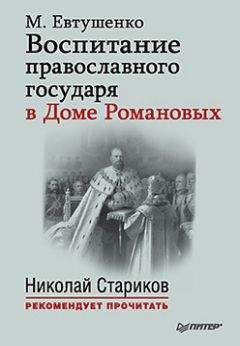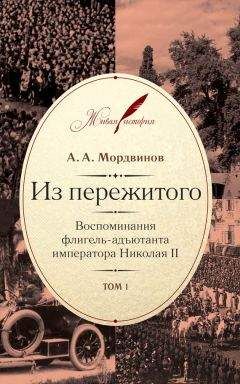Спал я, как мне показалось, довольно долго и проснулся около шести утра, когда по расписанию мы должны были проходить Гатчину и час, который, засыпая, я мысленно назначил себе для вставания.
Поезд двигался, как мне показалось, более быстро, чем обыкновенно.
«Слава Богу, – подумал я, – несмотря на строжайший приказ поручика Грекова, мы все же двигаемся, куда хотим, и скоро будем дома, а не на Николаевском вокзале с его обнаглевшими запасными».
Я выглянул в окошко, надеясь издали разглядеть купола Гатчинского собора, и, к изумлению, увидел не хорошо знакомые мне окрестности Гатчины, а совершенно неизвестную местность; к тому же поезд двигался не к Петрограду и Гатчине, а в совершенно обратном направлении.
Встревоженный, я вышел в коридор и столкнулся с генералом Воейковым, еще в шинели, проходившим из служебного вагона в свое купе.
– Владимир Николаевич, что такое? Почему мы едем назад? И куда? – спросил я его.
– Молчите, молчите, не ваше дело, – как будто шутливо, но с сильным раздражением, нетерпеливо ответил он и скрылся в своем отделении.
Убеждение В. Н. Воейкова, что он должен знать все, а мы ничего, и что все касавшиеся близко нас распоряжения о разных передвижениях, известные даже мелкому служебному люду, – «не наше дело», мы знали давно и с этим кое-как свыклись.
Но тогда его столь требовательная таинственность показалась мне особенно неуместной. Видимо, он был сильно взволнован и не хотел этого показывать.
Коридор вагона был пуст; купе были закрыты; все спали, и только у моего соседа, командира конвоя графа Граббе, слышалось какое-то движение – он, вероятно, не спал.
Я вошел к нему и узнал, что вскоре после моего возвращения в вагон, в Малой Вишере, получилось подтверждение, что Любань уже занята большою толпою взбунтовавшихся солдат (одна рота или две), вероятно, испортивших путь, и что проехать через Тосну будет нельзя.
В таких обстоятельствах, конечно, было бы необходимо, чтобы Георгиевский батальон, как и предполагалось, шел действительно впереди нас в виде тарана, и не по боковому, дальнейшему пути.
Было решено поэтому с согласия государя, которого пришлось разбудить, вернуться назад в Бологое и кружным путем, через Старую Руссу, Дно и Вырицу, проехать в Царское Село.
В Бологом еще раньше была назначена смена паровозной бригады, но машинисты и другие, несмотря на свое утомление, не хотели сменяться и выразили непреклонное намерение ехать с императорским поездом и далее.
Наши военные железнодорожники из свитского поезда разъединили путевой телеграфный провод на Петроград, перевели на другой конец паровоз, и наш поезд быстрым ходом двинулся вперед. Теперь мы приближались снова к Бологому.
Впереди нас не было уже никого – служебный поезд остался позади и следовал в близком расстоянии за нами.
О непредусмотренном движении императорского поезда предупреждались постепенно лишь соседние, ближайшие станции.
В своих воспоминаниях Палеолог, упоминая об этом повороте императорского поезда назад, рассказывает, что командир железнодорожного батальона генерал Цабель, войдя тогда в купе спящего государя, убеждал вернуться назад, а не следовать в Царское Село, и что якобы государь отнесся ко всему равнодушно и говорил: «Ну что же, поедем тогда в Москву или в Крым… там теперь уже цветы цветут»23. Этого столь грубо выдуманного разговора не было, да и быть не могло, хотя бы уже потому, что генерал Цабель не входил, да и не мог входить по своему положению в купе государя. К Его Величеству входил в ту ночь лишь генерал Воейков, и разговора о Москве, Крыме и цветах, конечно, не было. Я это знаю наверное…
Начиналась среда, 1 марта, новый тяжелый день, когда томительные переживания не облегчались уже ни надеждой на скорое окончание бунта, ни мыслью о скором свидании с семьей. Впрочем, в то время о своих я перестал почти думать. Мои были сравнительно в безопасности и здоровы, но зато моя Родина и любимая семья моего государя не выходили у меня из головы. Я представлял себе их больными, окруженными бунтующей толпой, растерянными, тщетно ожидающими приезда государя.
К великим княжнам и маленькому Алексею Николаевичу я был привязан всей душой и в своих чувствах к ним почти не отделял их от собственной дочери.
Не любить и не привязаться к ним было нельзя: их внутренний мир чаровал еще больше, чем их прелестный внешний облик. Я чувствовал, что они также любили меня, и нас связывала самая искренняя дружба…
Я не помню хорошо, как прошел этот день до вечера, да и вряд ли что-либо записал об этом в своем дневнике.
Помню только, что весь этот день был ясный, чувствовалось начало войны, что на станциях и, в частности, в Старой Руссе текла обычная мирная жизнь, что задержек в пути не было, что государь не выходил почему-то, как всегда во время остановок, для прогулки и что то короткое время, которое мы обычно проводили вместе с Его Величеством, ничем не отличалось в разговорах от обыденных, не тревожных дней.
Нелегко, конечно, было и нам, и ему говорить о ничтожных вещах – поддерживать разговор и лишь думать о том, что так мучительно волновало каждого из нас, а Его Величество в особенности.
Вспоминается также, что было решено щедро наградить не пожелавших сменяться верных паровозных машинистов и кочегаров.
К сожалению, последовавшие события в Пскове заставили совершенно забыть и об этих преданных своему царю людях[2].
Помню и то, что в течение дня получилось хорошее известие, что генерал Иванов со своим эшелоном благополучно, без задержек, проследовал через Дно и должен был быть уже в Царском Селе, откуда еще сведений не было.
Получилась и непонятная ответная телеграмма от Родзянко, ожидавшегося нами на станцию Дно и кратко уведомлявшего, что «по изменившимся обстоятельствам он выехать навстречу Его Величеству не может».
Также помню, что до получения этой телеграммы и до прибытия нашего на станцию Старая Русса никаких предположений о перемене маршрута на Псков не было, и лишь по приезде на эту станцию получилось известие, что мост по Виндавской дороге якобы или испорчен, или для тяжелого императорского поезда ненадежен, и только тогда было решено двигаться на Псков и оттуда по Варшавской дороге прямым путем через Лугу, Гатчино и Александровскую на Царское Село.
Тогда же была послана и новая телеграмма Родзянко, уведомлявшая о перемене нашего маршрута и снова предлагавшая ему выехать на встречу в Псков.
В этом городе находился штаб Северного фронта генерала Рузского, и оттуда можно было связаться прямым проводом со Ставкой, Петроградом и Царским Селом и выйти наконец из той тревожной неизвестности, которая нас окружала со вчерашнего вечера.