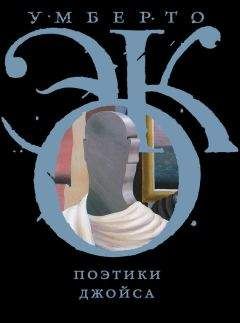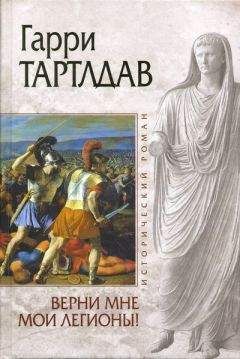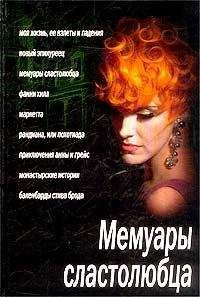Ознакомительная версия.
Говорилось, что в «Улиссе» никто не совершает преступления, поскольку в нем отсутствует страсть, – а ведь одна только страсть является движущей силой любой повествовательной машины и привычных драматических узлов всякого события[219]. Но непонятно, почему нельзя назвать страстью унижение Блума, блуждающего или преданного, его отчаянное желание отцовства. Однако нужно задаться вопросом о том, почему мы замечаем эти «патетические векторы» в фигуре Блума, не теряясь в море ментальных событий, распределенных почти статически и изложенных таким образом, что ни одно из них не выделяется особо. Дело в том, что такой патетический вектор выявляется, если каждый жест персонажа, каждое его слово, каждое ментальное событие (а также жесты, слова и ментальные события других людей, его окружающих) рассматривается относительно некой системы координат. Эта система позволяет обнаружить узлы связей внутри этого пространственно-временного континуума, в котором изначально всё вправе связываться со всем, и единственный устойчивый закон – это возможность множества соединений.
Проблема этих координат – центральная проблема поэтики «Улисса», и в то же время это опять же проблема искусства, встававшая перед Стивеном: если искусство – это «человеческий способ располагать чувственно– или умопостигаемую материю с эстетической целью», тогда художественная проблема «Улисса» – это проблема установления некоего порядка. «Улисс» – это книга, в которой происходит движение к разрушению мира, как говорит Юнг; Э.‑Р. Курциус подтверждал, что роман коренится в метафизическом нигилизме и что в нем макрокосм и микрокосм основываются на пустоте, в то время как вся культура человечества взрывается, сгорая в прах, как при космической катастрофе[220]; и Ричард Блэкмур напоминает, что «Данте пытался придать порядок вещам лишь в разуме и в традиции, тогда как Джойс отвергает все это и дает тип нигилизма в порядке иррациональном»[221]. Во всех этих случаях предполагается, что сущность книги состоит в беспорядке; но поскольку беспорядок и разрушение сумели проявиться в столь явной мере и стали передаваться читателю, им с необходимостью должен быть придан некий порядок.
Итак, Джойс перемешивает магму опыта, которую он передает на каждой странице с абсолютным реализмом, причем в то же время каждое событие (чреватое огромным множеством исторических и культурных импликаций, привносимых словом, обозначающим это событие) обретает символические аспекты и соединяется с другими событиями посредством всевозможных связей, с которыми не смог бы совладать и сам автор, коль скоро они вверяются свободной отзывчивости читателя такими, каковы они суть. Здесь Джойс стоит перед лицом Эреба и Ночи, хтонических сил, высвободившихся из своих родных глубин; это одержимость реальностью, разъятой на атомы, и проклятие пяти тысячам лет культуры, вложенное в каждый жест, в каждое слово, в каждый факт. Он хочет дать нам образ такого мира, где многообразные события (а в книге содержится сумма культурных аллюзий: Гомер, теософия, теология, антропология, герметизм, Ирландия, католическая литургия, Каббала, упоминания о схоластике, но также повседневные события, психические процессы, жесты, «восточные» иллюзии, связи по родству и по выбору, физиологические процессы, запахи и вкусы, шумы и явления) сталкиваются и складываются друг с другом, отсылают друг к другу и отталкивают друг друга, словно при статистическом распределении событий, происходящих внутри атома, позволяя читателю наметить многообразные перспективы взгляда на это произведение-универсум. И все же возможности символических связей здесь не те, благодаря которым становился говорящим средневековый Космос, где каждая вещь была манифестацией некой иной реальности. Там это происходило при сопровождении целого набора фигур, утвержденного традицией и приведенного к единообразию авторитетом «Бестиариев» и «Лапидариев», «Энциклопедий» и Imago Mundi[222]. В средневековом символе отношение между означающим и означаемым ясно в силу однородности культуры: но именно этой однородности одной-единственной культуры и не хватает современному поэтическому символу, который порождается многообразием культурных перспектив. В нем знак и означаемое обручаются посредством короткого замыкания, поэтически необходимого, но онтологически неосновательного и непредвиденного. Шифр не покоится на отсылке к объективному космосу, данному за пределами произведения; его понимание имеет силу лишь внутри произведения и обусловлено структурой последнего. Произведение как Все предлагает ех novo[223] лингвистические условности, которыми оно управляется, и становится ключом к своим собственным шифрам. Жан де Мен заполняет «Roman de la Rose»[224] символическими фигурами, эмблемами, и ему нет нужды объяснять особо, о чем он говорит: его современникам это и так известно. Элиот вынужден писать ряд примечаний к «The Waste Land»[225], упоминая Фрэзера, мисс Вестон и карты Таро, – и все же читатель не получает несомненно верных ключей, позволяющих ему без труда ориентироваться в этой поэме.
Пересмотреть всю совокупность символических возможностей, перекрещивающихся друг с другом во всех измерениях современного культурного универсума, – вот отчаянное предприятие, в ходе которого Джойс, еще недавно бывший Стивеном Дедалом, встречается с ужасом Хаоса. Стивен в колледже «Клонгоуз Вуд» писал на обложке своего учебника по географии: Стивен Дедал – Приготовительный класс – Клонгоуз Вуд Колледж – Сэллинз – Графство Килдер – Ирландия – Европа – Земля – Вселенная[226]. Места, названия которых он должен был выучить, находились «все в разных странах, а страны на материках, а материки на Земле, а Земля во Вселенной»[227]. Это было первым, еще детским открытием того Упорядоченного Космоса, на котором отдыхало необеспокоенное сознание средневековых людей и развал которого совпадает с рождением современного умонастроения. Стивен знает, что в тот момент, когда он отрекается от Семьи, от Родины и от Церкви, он отрекается от этого Упорядоченного Космоса, чтобы приобщиться к задаче современного человека: всякий раз заново упорядочивать мир по мерке своей собственной ситуации. Воспоминание о Порядке в «Клонгоуз Вуд» все время искушает его; вызов Хаоса, в котором он признает мир, который предстоит впервые возделать, обязывает его найти новые направления движения.
Именно здесь Джойс принимает решение, достойное старого закоренелого схоластика, «steeled in the school of the old Aquinas»[228], и переносит склонность к компромиссу, унаследованную от наставников-иезуитов, в живую плоть своих композиционных приемов. При этом он пользуется материалом, ему не принадлежащим, изменяя его облик и силою вынуждая усыновить этот материал тех отцов, которые никогда не признали бы его своим. С той же самой царственной непринужденностью, с тем гением формализма, с той непочтительной и предательской фамильярностью по отношению к auctoritates[229], которые отмечают доброго комментатора средневековых теологических школ (всегда готового найти у святого Василия или святого Иеронима выражение, пригодное для того, чтобы оправдать физиологическое решение, кажущееся ему самым разумным), Джойс просит у авторитета средневекового Порядка гарантий существования нового мира, который он открыл и избрал. И вот здесь на магму опыта, выведенную на свет «поперечным разрезом», он налагает сеть традиционного порядка, образуемого симметричными соответствиями, картезианскими осями, направляющими решетками и пропорциональными ячейками (вроде тех, что служили древним скульпторам и архитекторам для того, чтобы закрепить точки симметрии их строений), общими схемами, способными стоять за дискурсом и поддерживать его в иерархии аргументов и в возможности соответствий. Это схема, подобная той, которую можно обнаружить в «Сумме теологии» с ее подразделением на генеалогическое древо, в котором все исходит от Бога, рассматриваемого как причина образцовая – и сама по себе, и по отношению к творениям – и в этом втором случае понимаемого как причина действующая, целевая и исправляющая; в свою очередь, она позволяет каждому из этих подразделений нисходить к рассмотрению сотворения ангелов, мира и человека, к определению действий, страстей, обычаев и добродетелей и, наконец, к исследованию тайны Воплощения, к таинствам как постоянным орудиям искупления и к смерти как преддверию жизни вечной. Это направляющая решетка, благодаря которой ни один quaestio[230] не находится на данном месте по случайности, и даже предмет, представляющийся самым банальным (женская красота, допустимость косметики, превосходство чувства благоухания в воскресших телах), имеет некое основание, некую существенно важную функцию, как дополнение, получающее свое оправдание в свете всего и участвующее в энном по счету оправдании всего.
Ознакомительная версия.