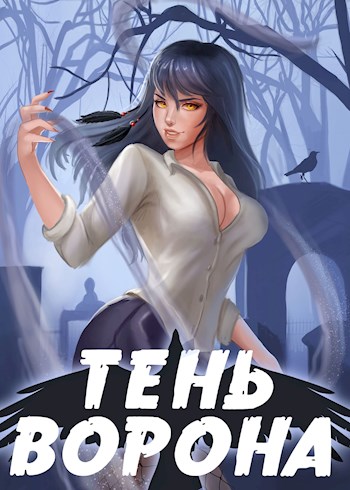консерваторий считалось одним из лучших музыкально-учебных заведений в России, то Зверев не настаивал на моем возвращении в Москву, предоставив мне самому решение этого вопроса. Я остался в Тифлисе и заключил с дирекцией контракт на три года с «неустойкой».
Однако, прослужив в Тифлисе один год, я очень пожалел, что так рано посвятил себя педагогической деятельности. Мне захотелось еще самому поучиться за границей, поиграть – ведь мне был только двадцать один год. Я решил все честно объяснить директору музыкального училища М.М. Ипполитову-Иванову. Отзывчивый, чуткий и добрый Михаил Михайлович, каким он оставался всю свою жизнь, поняв и даже одобрив мое желание продолжать учиться, обещал оказать свою поддержку ходатайством перед дирекцией о расторжении со мною контракта без взыскания с меня неустойки. Свое обещание М.М. Ипполитов-Иванов выполнил. Но… у меня не оказалось материальных средств для поездки за границу.
Отец, на поддержку которого я рассчитывал, мне отказал:
– Зачем тебе ехать за границу? Разве тебе мало Москвы? Ведь ты уже окончил консерваторию и даже медаль получил, чему же ты еще учиться будешь?.. Довольно с тебя!
Полный разочарования, я, конечно, написал обо всем Звереву. К этому времени от Зверева, окончив консерваторию, уехал и Максимов. Новых воспитанников после нас у Николая Сергеевича уже не было.
Здоровье его к тому же как-то сразу пошатнулось. Тем не менее на мое письмо я очень скоро получил следующий ответ.
«Страшно рад, что тебе пришла в голову такая счастливая мысль: еще поработать. Педагогом сделаться успеешь. Отказ твоего отца меня нисколько не удивляет. Поезжай с Богом! Поучись! Пока жив – тебя не оставлю. Много дать не смогу, а сто рублей в месяц посылать буду».
Это было в 1893 году. Я поехал за границу, но воспользоваться поддержкой Зверева мне не пришлось.
Зверев умер [65]. После его смерти мы часто встречались с Рахманиновым и Максимовым. Постоянной темой наших бесед были воспоминания о нашем любимом старике. Во многом, что нам в детстве казалось обидным, во многом, в чем мы считали Зверева неправым, несправедливым, строгим и даже жестоким, мы усматривали теперь только любовь и заботу о нас. А над многим, от чего мы в детстве плакали, теперь искренне и весело смеялись.
Наши свидания всегда заканчивались исполнением его завета. За упокой его души мы выпивали по бокалу доброго вина.
Москва
3 октября 1938 года
Он умел волновать печалью
М.Е. БУКИНИК [66]
На Большой Никитской, между двумя Кисловскими, стоит в глубине двора солидное здание екатерининских времен. Было в нем что-то прочное и барское. Я любил входить в этот просторный двор, любил его полукруглый фронтон с колоннами, любил его каменные, протертые от времени лестницы, высокие потолки, лепку на карнизах.
Это было старое помещение Московской консерватории.
В коридорах между часами занятий появлялись профессора. Вот Н.С. Зверев, первый учитель Рахманинова, высокий, тонкий, с прямыми седыми волосами, как у Листа, и неожиданно черными густыми бровями на бритом лице. От его доброго, отеческого лица веяло миром и спокойствием. Вот Ферруччо Бузони [67], тогда еще молодой, с розовыми губами и с маленькой светлой бородкой. Вот А.И. Зилоти, такой же молодой, высокий, гибкий, живой, с приятной улыбкой на лице. Вот П.А. Пабст, огромный, тяжелый тевтон с бульдогообразным лицом (его фигура наводила страх, а между тем это был добрейший человек!). Вот грузная фигура близорукого С.И. Танеева. Вот С. Аренский, подвижный, с кривой усмешкой на умном полутатарском лице. Он всегда острил или злился. Его смеха боялись, его талант любили. А вот и директор В. Сафонов, низкого роста, полный, кряжистый, с пронизывающими черными глазами, – профессора и ученики всегда чувствовали его хозяйское око.
Многочисленные ученики консерватории толпились или в «сборной комнате» на втором этаже, или внизу, в «раздевалке», подальше от начальственного взора, а в особенности подальше от Александры Ивановны. Последняя – инспектор нашей консерватории – была преданным слугой Сафонову и консерватории. Ее тонкая и высокая фигура появлялась всегда там, где она была нежелательна. Она наблюдала за благонравием учениц консерватории и за поведением учеников, не давала спуска никому, угрожая увольнением, выговорами, тасканием к директору и прочими страхами. Ее честная беззаветная работа не за страх, а за совесть хотя и раздражала учащихся (от них она слышала грубости и дерзости), но после окончания консерватории все расставались с ней друзьями.
Сейчас перед моими глазами как бы проходят ученики: розовый, с копной курчавых волос [68] Иосиф Левин, уже тогда выступавший в больших концертах как законченный пианист. Маленький и юркий скрипач Александр Печников – консерваторская знаменитость: он страшно важничает и никого не замечает, но он талантлив, и мы восхищаемся им. Тщедушный, вылощенный А. Скрябин, никогда не удостаивавший никого разговором или шуткой; в снежную погоду он носит глубокие ботинки, одет всегда по моде. Скромный, всегда одинокий А. Гольденвейзер. К. Игумнов – «отец Паисий» [69], как его прозвали; у него вид дьячка, но он студент Московского университета, и его уважают. На наших собраниях любит бывать Коля Авьерино [70], черный, как негр, и большой шутник; приходят иногда деловитый Модест Альтшулер [71]и Ленька Максимов, длинный, худой и очень общительный, всеми любимый товарищ – он центр разных кучек, сам много говорит, любит шутку, любит и скабрезность, и мы охотно толпимся вокруг него.
В этой толкотне появляется и С. Рахманинов. Он высок, худ, плечи его как-то приподняты и придают ему четырехугольный вид. Длинное лицо его очень выразительно, он похож на римлянина. Всегда коротко острижен. Он не избегает товарищей, забавляется их шутками, пусть и мальчишески-циничными, держит себя просто, положительно. Много курит, говорит баском, и хотя он нашего возраста, но кажется нам взрослым. Мы все слышали о его успехах в классе свободного сочинения у Аренского, знали о его умении быстро схватить форму любого произведения, быстро читать ноты, о его абсолютном слухе, нас удивлял его меткий анализ того или иного нового сочинения Чайковского (мы проникались его любовью к Чайковскому) или Аренского. Но как пианист он нам меньше импонировал.
Однажды был устроен ученический концерт в Малом зале Благородного собрания [72], в котором участвовали лучшие ученики всех классов. В этом концерте Рахманинов впервые выступил с первой частью своего Первого фортепианного концерта. Я играл в ученическом концерте и чувствовал чисто мальчишескую гордость, что вот, мол, товарищ выступает с собственной композицией. Мелодика Концерта, помню, меня не поразила, но свежесть гармонии, свободное письмо и легкое владение оркестровкой мне импонировали.
На репетиции восемнадцатилетний Рахманинов проявил свой упорно-спокойный характер, каким мы его знали в товарищеских собраниях. Директор консерватории Сафонов, обыкновенно дирижировавший произведениями своих питомцев, не церемонился и жестоко