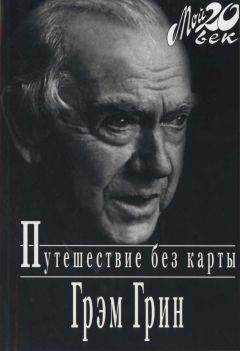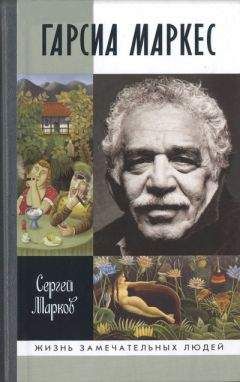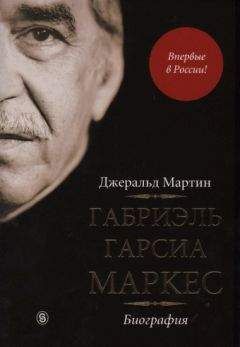Затем я попробовал свои силы в театре, сперва скромно, в очень трагичных и очень брутальных одноактных пьесах, действие которых происходило в Средние века. Там моя невзрачная поэтическая проза расцвела пышным цветом. Я находился под сильным влиянием «Лесных любовников» Хьюлетта, и в моих пьесах можно найти немало копий с Isoult La Desirous[14]. «Стройная девушка, ростом немного ниже среднего, с водопадом черных волос, грустная, задумчивая девушка, которая говорит мало, вскользь и без затей, с серыми глазами, горящими на бледном лице». Так описывает ее настоятель монастыря Тернового Венца, и этот же образ привлекал меня, когда я читал и перечитывал «Пеллеаса и Мелисанду» Метерлинка.
На смену Хьюлетту пришло новое увлечение. Я посмотрел пьесу лорда Дансейни «Если», где главную роль играл Генри Эйнли (я сам в школьном спектакле играл Поэта в «Потерянном цилиндре» Дансейни и чувствовал себя его собратом), и сразу же начал писать пьесу фантастического содержания, названия которой не помню. В ней, как мне хотелось думать, воспевалась поэтичность, присущая церемонии пятичасового чая. В 1920 году отношение к чаю было все еще серьезное и пили его очень красиво. Серебряный чайник, блюдо для торта на подставке, увенчанное тиарой наподобие китайского замка, два вида хлеба с маслом: черный и белый, тончайшие бутерброды с огурцами и помидорами, пшеничные и ячменные лепешки, булочки и, наконец, кексы: сливовый, с мадерой, с тмином… чай был роскошен, как викторианский обед. В моей пьесе действие (вероятно, из подражания Дансейни, который придерживался похожего маршрута) зачем‑то перемещалось из Лондона в Самарканд.
Я послал ее в одну из многих существовавших в 1920 году драматических студий, хотя о Театральном обществе не смел и мечтать, и, к своему восторгу, получил письмо, подписанное женским именем, в котором сообщалось, что моя пьеса принята к постановке. Через несколько дней я отправился в Лондон, чтобы познакомиться с моим первым постановщиком. Сент — джонский лес, вблизи которого жила моя корреспондентка, в те дни еще был пропитан пряным духом адюльтера: любовники снимали там квартиры для свиданий. Я позвонил. После долгой заминки дверь открыла пышно — розовая дама, державшая обеими руками на груди незапахнутый халат. Из комнаты, которой кончался коридор за спиной дамы, за ней наблюдал голый мужчина, лежащий в двуспальной кровати. Пока я объяснял ей, что приехал обсудить пьесу, она ошарашенно глядела на мою синюю школьную фуражку. Затем она угостила меня жидким чаем, ничем не напоминавшим воспетый мной, и, продолжая меня разглядывать, уклончиво и туманно заговорила о сроках постановки и распределении ролей. Это была наша первая и последняя встреча. Не сомневаюсь, что эта студия вскоре прекратила существование. Возможно, моя пьеса была той соломинкой, за которую цеплялась утопающая дама, и вместе с ней затонули ее мечты о простодушном богаче, готовом оплатить все счета, в том числе и сопут — ствующие (например, от домовладельца и молочника), или расходы, связанные с двуспальной кроватью из комнаты в конце коридора.
Тем не менее пьесу мою хотели ставить. Разочарование пришло медленно и безболезненно: я ждал письма с лондонским штемпелем, а его так и не принесли. Кажется, тогда мне начал сниться сон, не дававший мне потом покоя лет двадцать. Во сне я, хотя и учился в школе, был уже признанным, хорошо зарабатывающим писателем. Почему я должен бояться экзаменов, если в любую минуту вообще могу бросить учиться? Зачем мне университет? Почему меня должно беспокоить будущее и это навязшее в ушах, расплывчатое слово «работа»? Но, проснувшись, я снова шел на занятия, а впереди грозно маячил университетский конкурс, и мне непременно нужно было получить стипендию.
1
Летом 1923 года я с большой неохотой присоединился к своей семье, отдыхавшей на норфолкском побережье в Шерингеме. Отец, у которого расходов было более чем достаточно, назначил мне содержание в 250 фунтов (значительную по тем временам сумму), а вскоре после поступления в Оксфорд я смог уменьшить его, поскольку с отличием выдержал конкурс по истории и получил стипендию в пятьдесят фунтов. Стипендия дважды уходила от меня, пока я учился в школе, и я сомневаюсь, что к университетскому конкурсу был готов лучше, чем к школьному, но мы по — прежнему жили в мире влиятельных друзей. Мой тютор, Кеннет Белл, был старым учеником моего отца, его последователем и заведовал моей школой. Позже я узнал от него, что «историческую» стипендию мне в основном дали за сочинение по английскому. «Ты там цитировал стихотворение, — признался он, — и я сказал, что ты сочинил его сам». Он, конечно, знал, что я пробую писать стихи, но процитированное мной стихотворение принадлежало Эзре Паунду, я знал его наизусть: «За белым оленем, Славой, охотимся мы…» Мало кто из университетских преподавателей читал в 1923 году Паунда, и когда я сказал Кеннету Беллу, что он ошибся, он испугался не на шутку. Тем не менее стипендию должны были кому‑нибудь дать, и хорошо, что ее дали мне, а не кому‑то еще.
Если бы я в тот год подкопил денег, то поехал бы летом в Париж, а не в Шерингем. Париж привлекал меня тогда больше, чем Афины или Рим. В Париже только что напечатали «Улисса». Побывавшие там рассказывали, что в «Сфинксе» посетителей обслуживают голые официантки, да и в Фоли — Бержер или на концерты Майоля еще не ходили всей семьей, как после. Но я к концу учебного года был по уши в долгах: слишком много было выпито пива, слишком много куплено книг ими были завалены все полки в моей комнате, и они не имели никакого отношения к занятиям. Кредит, предоставляемый книжным магазином «Блэкуэллз», казался новичкам вечным (хотя время от времени и им приходилось понемногу платить), а вот спиртное заказывалось через буфет колледжа, и его ставили в счет, о кредите здесь речи не было. Кроме того, я прожил первые два семестра на окраинной Бичкрофт — роуд и часто возвращался туда ночью на такси. Короче, у меня образовался дефицит за будущий семестр, и я мрачно сказал себе: «Придется ехать в Шерингем», — там можно было жить с семьей, не тратя ни пенса.
Младшие дети, Элизабет и Хью, стали слишком большими для няни, и у них появилась гувернантка — молодая женщина лет двадцати девяти — тридцати, то есть на десять лет старше меня. Поначалу я не замечал ее, так как мечтами по — прежнему стремился к кузине и официантке из Оксфорда. Но я заметил, что брат и сестра привязались к ней и она охотно играла с ними в крикет на прибрежном песке. Миг, когда я взглянул на нее осмысленно, был одновременно и coup de foudre[15]. Она лежала на песке, и юбка у нее высоко поднялась, оголив бедро. В ту же секунду я влюбился в нее душой и телом. В этой любви не было ничего романтичного или надуманного, я не вздыхал по ней, как по официантке из оксфордского паба.