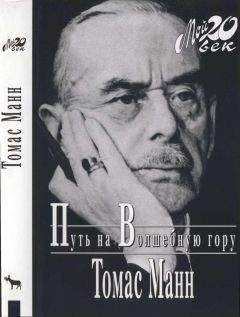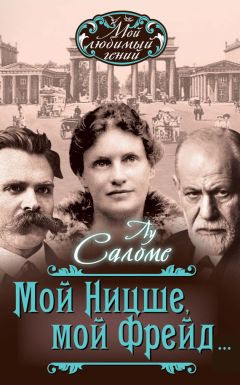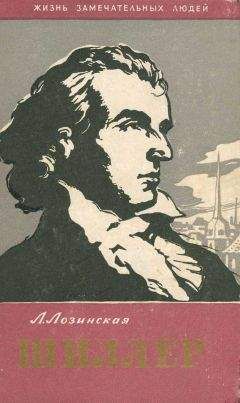Вот тогда‑то в нем родилась настоятельная потребность хотя бы сплотиться только наружно в единый стройный организм, ввиду новых, грядущих фазисов его вечной борьбы с крайнезападным миром Европы…»
Тот, кто предается духовному созерцанию великих потрясений, разрушительных катастроф, рискует быть заподозренным в особого рода тщеславии — щекотать свои нервы шутками в виду землетрясения. При серьезных и страшных обстоятельствах дух легко предстает фривольностью. Однако вне духа невозможно познать ни одну вещь, даже самую маленькую и ничтожную, не говоря уже о великих исторических феноменах. У всех этих феноменов — два лика. Удалите из Французской революции «философию» — останется один лишь голодный бунт. Останется переворот в имущественных отношениях. Но кто же станет отрицать, что трактовать Французскую революцию таким образом означает несправедливо ее унижать? То же самое можно сказать и о событиях наших дней, совершенно невозможно согласиться с рассерженными пуристами, которые из вполне объяснимого отвращения перед фельетонной философией настаивают на том, что единственная реальность этой войны и есть сама война, а именно безымянная беда, и было бы наглым кощунством лгать об этой мерзкой действительности, приукрашивать ее, внося в беду и бойню всемирно — исторический смысл, да еще пытаясь этот всемирно — исторический смысл как‑то истолковать. Требование подобного абсентеизма негуманно, хотя оно и проистекает из гуманистической боли по распаду братства. Не всегда гуманистическое то же, что и гуманное.
Взгляды Достоевского на европейскую историю или, в гораздо большей степени, на противоречивую роль в этой истории Германии, не столько верны, сколько остроумны. То, что в его толкованиях полно вольностей, односторонностей, даже ошибок, я думаю, и так заметно. Например, когда он рассуждает о том, что развитие римской объединительной идеи в революции привело к утрате существенной части христианских основ этой идеи, он (как мне кажется) путает то, что спутала и сама революция, а именно христианство с Церковью; потому что все культы разума, вся ненависть к клиру, все разнузданные издевки над догмами и легендами позитивной религии вообще и «выблядком неверной жены» в частности не могут помешать увидеть то, что в основе революции, в той мере, в какой она несет на себе отпечаток духа Руссо, лежит лучшая часть христианства, христианской универсальности, христианской восприимчивости. Недаром в своем письме к Папе Римскому[37] madame Ролан пишет о «тех евангельских принципах, которыми дышит чистейшая демократия, нежнейшая любовь к человеку и совершеннейшее равенство». Точно так же очень легко установить, что и до сего дня всякий руссоизм, всякая радикальная демократия, любое революционное эпигонство всегда готовы поморализировать в христианском стиле, даже вполне сознательно клясться именем христианства. В конце концов есть что‑то справедливое в том, что с вражеской стороны, из лагеря цивилизации, в Германию и в немцев могли быть брошены упреки в язычестве, в тайном поклонении Одину, — что‑то справедливое (я так полагаю) есть и в шутке, сложившейся в нашей среде: мол, единственные христиане в Германии — это евреи. Что же до отношения германского духа к римскому миру, то здесь (как мне кажется) Достоевский из двух великих символических событий и переживаний видит только одно: он видит немецкое событие «Лютер в Риме», но не видит другого, для многих немцев куда более важного и дорогого события: «Гёте в Риме» — на что, разумеется, есть свои причины.
Достоевское Ареrcи[38] — великолепно и односторонне, но оно — глубоко и истинно, ведь надо вспомнить то, что истинные мысли не во все времена одинаково истинны. Достоевский писал свои рассуждения под влиянием личности Бисмарка, несколько лет спустя после франко — прусской войны, и тогда они были в высшей степени истинны. В межвременье они потеряли интенсивность истины; мы могли их читать, не чувствуя себя чем‑то особенным задетыми, мы могли читать, не чувствуя их правоту, даже не понимая их. Сегодня нам не обязательно даже читать эти рассуждения, чтобы понять их, чтобы ощутить их истинность. Потому что это — военная мысль, исполненная военной истиной, так что в войну эта мысль о «протестующей стране» вспыхивает со всей силой правды, сияет для каждого, — да, относительно этой мысли сейчас наступает полная и всеобщая ясность: в этом пункте Германия согласна со всеми своими врагами, не только с внешними, но и с так называемыми внутренними, с теми, кто, находясь среди нас, протестует против немецкого протеста, — с тем обращенным к Западу всей своей набожной любовью духом, о котором я намереваюсь еще поговорить. Итак, я утверждаю, что все, друзья и враги, были и остаются согласны в одном, даже если убеждения у них разные, ведь мнения и убеждения это далеко не одно и то же. Например, когда Ромен Роллан в своей военной книге[39] пишет о моей статье, которую, возможно, помнят некоторые читатели («Мысли во время войны», ноябрь 1914–го), де, я напоминаю бешеного быка, со склоненной башкой мчащегося на шпагу матадора; ибо все обвинения по адресу Германии я воспринимаю как германские титулы славы, чем предоставляю нашим врагам идейное оружие, попросту говоря, совершенно неожиданно соглашаюсь с ними; так вот в этом случае Ромен Роллан тем самым и демонстрирует ту границу между мнением и убеждением, на которой зиждется всякая духовная вражда. Потому что там, где нет никакой общности мыслей, там и не может быть никакой вражды, там царит равнодушная отчужденность. Только там, где думают одинаково, а воспринимают продуманное по — разному, рождается вражда, там растет ненависть. В конечном счете речь идет о европейской братской войне, дорогой и любимый господин Роллан.
Итак, я полагаю, что сейчас наступила всеобъемлющая ясность относительно того, что духовные корни этой войны, которую с полным на то правом называют «немецкой войной», обнаруживаются во врожденном, историческом «протестантстве» Германии; и что сама эта война означает новый взрыв великолепной, как полагают многие, последней древней немецкой борьбы против духа Запада, или борьбы римского мира против своевольной Германии. Я не могу не понять то, что весь немецкий «патриотизм» — и как раз именно тот, что проявился инстинктивным, неожиданным или мало ожидаемым образом, — всем своим существом и существованием принадлежит и принадлежал к инстинктивной, прирожденной и лишь потом отрефлектированной протестантской партийности; что Германия в этой войне развернута лицом к Западу, несмотря на огромную физическую опасность, которая угрожала ей и не перестает угрожать с Востока. Восточная опасность была ужасна, так что пять армейских корпусов пришлось снять с Западного фронта, в результате чего французы и получили свою grande victoire sur la Marne[40], но любой из нас согласится, если его спросят, что так было нужно, чтобы предотвратить развитие событий в Восточной Пруссии. Это не мешает признать тот факт, что опасная, необузданная Россия в нынешней войне является, к сожалению, всего только орудием Запада; что сегодня, к сожалению, следует принимать во внимание, насколько она либерализуется на западный лад, как раз таки в качестве члена Антанты, в которую она вступила не столько в политическом, сколько в духовном смысле (вестернизация России идет вовсе неплохо, что доказывает захватывающая беседа, которую вели русский министр иностранных дел Сазонов и английский романист о христианско — гуманистическом смирении грешника и о невыносимом «жестоком морализме» пруссачества, — великолепная, остроумная беседа, над которой совершенно неподобающим образом пытались иронизировать в нашей печати)[41]. Я повторяю, Россия — всего только член Антанты, к которой присоединилась и Америка, объединения западного мира, наследников Рима, «цивилизации» против Германии, протестующей с такой древней мощью, с какой только и может протестовать, страна.