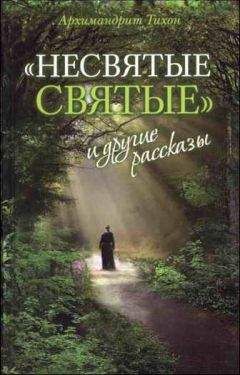Он также был хорошим примером женатого священника. Они с женой уважали друг друга, ибо любили Христа, и каждому из них открывались достоинства другого, лучшие качества и жертвенность. (Мне приходилось слышать, как сельские жители говорили своим жёнам: «Чем ты занималась целый день?», – и от этого моему сердцу становилось больно.) Матушке открывалось терпение и трудолюбие батюшки, а ему – смелость и твёрдость матушки в трудностях жизни. Их семья жила как настоящий древний общежительный монастырь. Никто не имел ничего своего, но всё было общим. Несмотря на суровую сельскую жизнь, они никогда не ругались между собой. (Как-то раз я был в доме одного пожилого священника в Эпире, и когда он назвал свою жену дурой, то я чуть было не утратил к нему уважения.) Хоть им часто приходилось несладко, их объединяла любовь ко Христу и чувство долга.
У него было пятеро детей. Двоих он от всего сердца отдал Христу: один из его сыновей стал священником, а одна из дочерей ушла в монастырь. Другой из сыновей огорчал его своим пристрастием к спиртному, но своё огорчение он выражал без слов, лишь молитвенно воздевая руки к Тому, Кто может избавить от смерти.
Для своего маленького села он был также примером ведения домашнего хозяйства – дела, которое сегодня исчезло даже из самых отдалённых селений нашей страны: петухи не кричат, куры не кудахчут, ягнята не блеют, сады не возделываются. (Румыны такой сад называют коровой: когда захочешь, ты можешь «выдоить» из него всё, что пожелаешь.) В сёлах теперь всё в запустении: от сада до полей и горных пастбищ, а у батюшки всё хозяйство процветало. Его семья всё делала вместе: вместе за плугом и с серпом, вместе на подрезке веток и на сборе винограда, вместе в овчарне и дома, вместе в церкви и на молитве. Казалось, что в то время, когда в церкви читалась молитва, они становились одним телом с одной душой, небеса открывались, и молитва их достигала цели. Земная жизнь не баловала их своими благами, но своими добродетелями они сами делали её прекрасной. Епитрахиль у священников не для того, чтобы жить в достатке, но для служения Божественной литургии. Потому-то Церковь и возложила её нам на шею, а не на руки: их она оставила свободными, чтобы мы трудились, зарабатывая ими себе на жизнь. Как говорил апостол Павел, «нуждам моим и нуждам бывших при мне послужили руки мои»[80].
Старый батюшка вместе со своей семейной киновией и паствой переживал о будущем Церкви и Греции. Он плакал, видя как люди отовсюду постепенно, но методично изгоняют Христа, да так сильно, как не гнал бы Его и сатана. Поэтому он посылал письма и к властям, и к архиепископу в Афины, призывая к действиям, которые остановили бы это зло. И хотя его письма не отличаются изысканностью стиля, но они с великим дерзновением говорят об истине, о горькой действительности нашего времени, за которую не в последнюю очередь ответственны люди, облечённые властью.
Отсветом его святой жизни является завещание, которое он оставил своим детям, и которое мы приводим в подлиннике:
Мои последние заветы:
Любимые мои дети,
имейте твёрдую веру.
Имейте полноту любви.
Творите добро везде и всегда.
Не враждуйте.
Терпение – корень добродетелей.
После моей смерти не плачьте и не рыдайте.
Я не хочу венков и цветов.
Оденьте меня в мои белые облачения и святогорский саван.
Вложите мне в руки Новый Завет.
Пусть мои похороны будут простыми, скромными.
Могила – без украшений, с крестом и оградкой.
На могиле надпись:
«Я всех прощаю и у всех прошу прощения».
Вместо надгробного слова просто попрощайтесь.
Поминок и застолья не нужно.
Для всех простое угощение.
На могиле вашей мамы пусть будет написано:
«Бесстрашная в жизни
матушка Василики».
Когда мы оба умрём, закажите о нас
СОРОК ЛИТУРГИЙ.
Да будет с вами благословение Божие
и мои горячие молитвы.
До встречи в горнем Иерусалиме.
Отец Константин.
Люди, научившие меня святой жизни
С детских лет я слышал слова преподобного Иоанна Лествичника: «Монашество есть постоянное понуждение себя». И моя покойная бабушка Захаро часто повторяла мне поговорку:
– «Рабочий день начинается с ночи». Ты допустишь ошибку, если отложишь сегодняшнюю работу на завтра.
Я начал удивляться добродетели самопонуждения и полюбил её прежде, чем узнал на деле. И до сих пор я желаю её стяжать как подходящую моему характеру как ни что другое.
Как-то я спросил у старца Амфилохия:
– Чем монах отличается от мирянина?
На это он мне ответил:
– Монах отличается постоянным понуждением себя.
После этого он целый вечер рассказывал мне о монахах, подвизавшихся в самопонуждении.
Самопонуждение принесло мне столько пользы, что у меня появилась мысль посвятить эту главу нескольким людям, монахам и мирянам, старавшимся понуждать себя, о которых я слышал или которых знал лично.
На Рождество 59-го года я приехал в своё село, чтобы провести праздник с родными. Как-то вечером я вышел на прогулку в поле, но не потому, что я склонен упиваться прелестями природы, а для того, чтобы посмотреть на землю своего острова в эту пору (на родине я не был уже четыре года). Я вышел, чтобы посмотреть на возделанные поля, разукрашенные в разные цвета, на ростки посевов, едва-едва показавшиеся из земли, на ухоженные виноградники с обрезанными ветвями, без листьев, с обнажёнными толстыми стволами, которые, будто змеи, клубками лежали на земле. Я вышел, чтобы ощутить запах влажной земли, чтобы посмотреть, как плывут по небу белые облака, предвещавшие людям скорый дождь.
В одном месте посреди виноградных лоз я увидел удивительную картину: девяностолетнего старика, который сидел на скамеечке и окапывал тяпкой виноградную лозу. Он передвигался от одного корня к другому, сидя на скамеечке. Всякий раз, поднимая тяпку, он громко говорил: «Помоги мне, Матерь Божия!» Я подошёл к нему. Старик уже вспотел и задыхался от усталости.
– Как дела, дядя?
Он поднялся и любезно поздоровался со мной. Старость и утомление не помешали ему выказать благородство. Я знал его с детства: это был один из бывших наёмных рабочих моего отца.
– Да вот, ухаживаю за виноградником; теперь только этим я и могу зарабатывать.
Всё это происходило до того, как появились так называемые крестьянские пенсии. Этому дедушке на одном из островов в Эгейском море приходилось зарабатывать себе на жизнь. У него оставалось чувство собственного достоинства: он не хотел оказаться в таком положении, когда ради милостыни ему пришлось бы стучаться в двери чужих людей. Я закончил свою прогулку, взял у него тяпку и, хотя не был обучен этому делу, успел до ночи окопать много лоз.