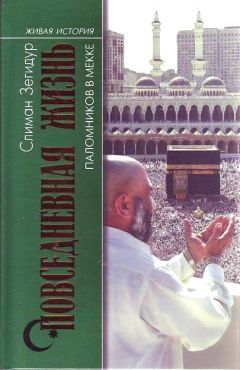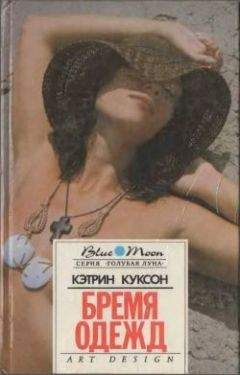Очень часто Низами исходит при этом не из классической традиции, а из практики живого языка, деталей быта, поговорок и поверий. В этом и заключается его новаторство, его стремление сблизить поэзию с интересами города. Попробуем показать трудность языка «Сокровищницы тайн» на примере. Говоря о красавице, Низами дает такое двустишие:
Смута этой луны, сшившей касаб.
Хирман луны, словно касаб, сожгла.
Здесь первое - касаб - особый род тонкого полотна, второе - тростник. Иначе говоря: красавица (луна), сшившая себе одежду из касаба, затмила своим появлением луну на небе (сожгла ее хирман, то есть сложенное в кучи обмолоченное зерно). Пока мы имеем шаблонное для классической персидской литературы сравнение: красавица прекраснее луны. Почему она сожгла хирман луны, как тростник? Это сравнение с пожаром сухой заросли тростника, то есть сожгла вмиг и дотла. Но тут есть и еще одна тонкость. Красавица сожгла луну, как касаб. Не известно поверье, что если лунный свет упадет на разложенное для отбеливания полотно, он сожжет его и полотно покроется дырками
Значит, луна сжигает касаб (полотно), а луна-красавица сожгла небесную луну так, как она сама сжигает полотно. Следовательно, второе касаб означает одновременно не только «тростник», но и «полотно».
Другой пример. Описывая зеленую лужайку, Низами говорит:
Ее растительность, словно нарцисс, сурьма для видящего,
Лилия - эфа[34]], словно изумруд - трава ее.
Сурьма на Востоке считается средством, обостряющим зрение; отсюда растительность лужайки полезна для зрения, на нее так же приятно смотреть, как приятно для глаза смотреть на нарцисс. Но нужно помнить, что и сам нарцисс, обладающий темной сердцевиной, похож на глаз. Отсюда возникает своеобразное перекрестное сравнение. Второе полустишие основано на народном поверье. Считается, что если эфа взглянет на изумруд, она ослепнет, но изумруд от ее ядовитого взгляда тает и растекается. Следовательно, лилия, которая, кстати сказать, без глаза, ибо не имеет темной сердцевины, стояла на лужайке, как эфа. Она взглянула на изумруд, он растекся, и так вокруг лилии образовался зеленый покров - растекшийся изумруд.
Стоит обратить внимание на то, что все двустишие - необычайно искусное превращение в сложнейший образ такого шаблонного метафорического эпитета, как «изумрудная лужайка». Заметим, что таких строк на каждой странице этой поэмы по нескольку.
Основное задание совершенно очевидно: повысить значительность каждого отдельного слова, необычайно поднять его удельный вес. Слово, которое в разговорной речи лишь сигнал для образования мысли, здесь становится самодовлеющим. Совершенно очевидно, что все, сказанное Низами в этих строках, можно было бы в целях ясности изложить в нескольких словах. Но можно ли думать, что такой пересказ основных мыслей «Сокровищницы тайн» равнялся бы самой поэме? Конечно, нет, ибо без этого убранства формы они мелькнули бы, не оставив следа. В результате же углубленного внимания и самые обыденные мысли приобретают неожиданный вес.
Задача Низами - через сложный Процесс восприятии его поэмы воздействовать на волю читателя, склонить его к определенному поведению.
Требования Низами к человеку крайне суровы; его мораль создана для сильных людей, способных поднять на своп плечи такое тяжкое бремя. Слабостей он не прощает, и едва ли можно думать, что адресат поэмы Бехрамшах, которого этой поэмой он хотел направить на истинный путь, мог принять хотя бы небольшую часть этих советов к исполнению.
Однако резонанс, вызванный поэмой в литературах Востока, был поистине необычаен. Нам известно сорок два подражания этой поэме на персидском языке, среди которых часть создавалась еще в конце XIX века, два подражания на староузбекском (чагатайском) и два на анатолийско-турецком (османском).
Вероятно, этим число существующих подражаний не исчерпывается, и многие из них нам до настоящего времени еще неизвестны.
Отметим следующее. Идеологически многие из них идут по совершенно иным путям, чем «Сокровищница тайн», даже иногда представляют собой полемику против суровой морали Низами. Но стилистически зависимость всех их от Низами бросается в глаза. Новый стиль, созданный им, победил и на века определил внешнее оформление дидактической поэмы. Не всем, конечно, удавалось имитировать затрудненный язык Низами. У многих, особенно поздних, поэтов эти попытки привели только к темноте и искусственности.
«ХОСРОВ И ШИРИН»
Мы говорили выше о том, что результаты посылки поэмы в Эрзинджан остаются неизвестными. Получил ли поэт дар, на который все же в какой-то мере рассчитывал, мы не знаем.
Но распространение этой поэмы имело другой, совершенно неожиданный результат, которому было суждено оставить глубокий след в жизни и творчестве Низами. Правитель Дербенда, желая выразить поэту свое преклонение перед его талантом, прислал ему в подарок молодую кыпчакскую рабыню, по имени Афак. Низами говорит о ней:
Величавая обликом, прекрасная, разумная,
Прислал мне ее владетель Дербенда.
Ее шелка - кольчуга и даже железнее кольчуги,
У ее кафтана рукава уже, чем у рубашки[35]].
Вельмож она наказывала,
Мне же в супружестве постелила изголовье.
Из этих скупых строк можно понять многое, особенно в сопоставлении с поэмой «Хосров и Ширин». Афак, при всей своей красоте, видимо, отличалась свободолюбивым нравом и стать игрушкой для похотливых дербендских вельмож не желала. Может быть, именно поэтому ее и послали в подарок Низами. Можно себе представить что появление Афак в доме Низами носило весьма драматический характер. Едва ли девушка легко примирилась с тем, что ее послали куда-то, как бессловесную тварь. Но Низами подошел к ней не как к рабыне, а как к человеку уважая ее человеческое достоинство. Поэт подчеркивает, что она стала для него не наложницей, а законной женой.
Можно приблизительно определить дату этого брака. Афак подарила поэту его единственного сына Мухаммеда. Сын этот родился в 1174/1175 году и, следовательно, брак должен был произойти не позднее 1173/1174 года.
Брак этот был весьма счастливым. Низами души не чаял в своей молодой жене, украсившей своими заботами его скромный и тихий дом. Но этому счастью не было суждено продлиться. В 1180 году Афак умерла.
Низами не любил открывать своей души перед читателями. Но строки, в которых он говорит о кончине Афак, написаны кровью сердца и полны глубочайшей тоски. Эта утрата наложила отпечаток на всю его жизнь. Уже достигнув шестидесяти лет, на краю могилы, он, вспоминая об Афак, не мог удержаться от горестных строк: