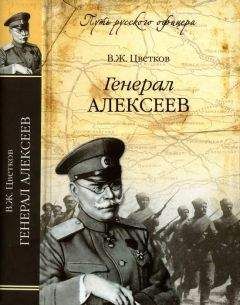Тотчас же послал я жене своей, находившейся с труппой в Екатеринославле, денежный пакет на проезд всех служащих к месту назначения. Но так как в то время железных дорог еще не существовало, то письмо мое шло неимоверно долго, что-то около трех недель, и, кроме этого, почему-то сердившийся на меня Екатеринославский почтмейстер умышленно продержал его в своей конторе еще с неделю, благодаря чему я оказался в критическом положении: условные сроки подступали, приезд труппы не предвиделся, а Жураховский приставал ко мне с претензиями. Я посылал эстафету за эстафетой, но никаких ответов не получал. Недоумение было полнейшее. Жураховский, понадеявшийся на комплект моей труппы, из своей выписал только главный персонал, остальных оставил продолжать спектакли в Севастополе. Выписанных персонажей его, разумеется, было не достаточно для театра, а моих не было, и сидели мы сложа руки, не зная, за что ухватиться, что предпринять. Наконец, почти к самому разъезду войск, прибыла моя труппа, и мы кое-как успели поставить несколько спектаклей. Вместо ожидаемых больших барышей оказались крупные убытки. В этой неудаче Жураховский, обвинив всецело меня, захватил себе безраздельно все сборы и, кроме того, подал на меня жалобу главнокомандующему графу, Остен-Саксену, очень мило разыгравшему роль судьи, которая, как оказалось, ему очень нравилась и тешила его бесконечно. Не входя в подробности дела и не выслушивая оправданий, он решил, что контракт мною нарушен самопроизвольно (даже чуть ли не с намерением), почему все мое имущество должно подлежать описи, дабы вознаградить убытки истца, уже правого тем, что он первым обратился к посредничеству высокопревосходительного судьи…
Все, что я имел, даже то, что было нажито мною до моей злосчастной антрепризы, поступило в продажу с молотка. Оставшись яко наг, яко благ, я принужден был распустить труппу и возвратиться в Николаев, где в театре оставался еще кое-какой хлам, за который можно было выручить несколько целковых и пропитаться ими до места.
Придет беда— раскрывай ворота. Беда идет и за собой другую беду ведет. Не успел я вздохнуть и опомниться от Елизаветградской катастрофы, как в Николаеве пришлось встретиться тотчас же по приезде с новою неприятностью. Бенкендорф, для которого Колумб уже потеряла свое очарование, стал наступать на меня с требованием тех денег, которыми он снабдил меня на театральное предприятие.
— Так и так, объясняю ему, потерпел крушение. Повремените. Сейчас ломаной копейкой не обладаю, поправлюсь— выплачу… Честное слово, в долгу не останусь!…
— Кто вас просил соваться в товарищество с Жураховским, — заметил он мне с раздражением, — у вас и так повсюду были роскошные дела.
— Погнался за большим и потерял маленькое!
— Послужит вам это наукой!… Вы, пожалуйста, озаботьтесь относительно денег, теперь я в них сам крайне нуждаюсь…
— Хорошо-с! Я поеду куда-нибудь служить и даю клятвенное обещание высылать вам половину моего содержания до полной уплаты долга…
— Чтоб не пришлось только ждать долго, — сострил Бенкендорф, и мы с ним расстались. Впоследствии я выслал ему деньги, но он их возвратил мне при любезном письме, в котором сознавался, что в наше последнее свидание он чувствовал себя не совсем здоровым, почему и позволил себе грубый тон, порожденный болезненною раздражительностью. В конце он приписал, что в моих деньгах не нуждается и никакого долга за мной не считает.
Через несколько дней после моего прибытия в Николаев, туда же приехал из Одессы Михаил Андреевич Максимов специально затем, чтобы пригласить меня на службу в труппу князя Гагарина. Я с радостью согласился и переправился в Одессу.
Князь Гагарин тоже не довольствовался одним городом, а делал периодические переезды в Кишинев. Дела его были очень не дурны, артистам жалованье выплачивал не скупо, впрочем, и антрепренерствовал-то он не из-за барышей, а просто из любви к искусству. В старое время таких меценатов было много. Баре не гнушались инициативой театрального дела, и провинциальная сцена тогда выглядывала как-то благороднее, порядочнее, опрятнее. Это были сороковые года, а если мы пойдем немного дальше и возьмем двадцатые— десятые года, то увидим, что антрепренеров-коммерсантов не существовало тогда вовсе, что театром тогда не эксплуатировали, что сцена тогда для нашего помещичьего барства была шалостью, развлечением, блажью. Да и настоящих, то есть профессиональных, актеров тогда не существовало: труппы состояли почти исключительно из крепостных, которых не только можно, но и должно признать родоначальниками провинциальных актеров. Меценаты-помещики, усматривавшие о своих крепостных дарование, очень часто давали им вольную и благословляли на актерский путь. С этого и начинается история провинциального театра…
В Кишиневе у меня с Максимовым, главным режиссером труппы князя Гагарина, произошло крупное недоразумение, послужившее причиной моего ухода из одесского театра. Максимов никак не мог примириться с тем, что публика симпатизировала мне больше, нежели ему. Он постоянно злился на это и волновался, придумывая какие-нибудь новые интриги и подводя меня под различные каверзы. Не в осуждение Михаила Андреевича я упоминаю это, а потому, чтобы быть последовательным и не пропускать фактических сторон моей театральной жизни. Прежде всего уж потому бы я не был судьей действий Максимова, что сам актер, сам сжился с кулисами и отлично понимаю, какое у актера самолюбие, развитое до нестерпимых пределов, в особенности же у актеров, не щедро наделенных талантом, а Михаил Андреевич именно к таким и принадлежал.
Впоследствии с Максимовым меня сталкивала судьба на сцене Харьковского и Петербургского Александринского театра, и мы были с ним в хороших товарищеских отношениях. Это тот самый Максимов, который в отличие от Максимова 1-го, 2-го, 3-го, 4-го и 5-го, служивших одновременно на Александринской сцене, назывался на афишах М. Максимовым.
Наша ссора в Кишиневе произошла из-за пустяков. В водевиле «Купеческая дочка или чиновник 14-го класса», Максимов требовал сокращения моей роли. В другое время, может быть, я и согласился бы, но перед открытием занавеса никаких купюр делать не позволил. Разговор у нас завязался крупный и окончился довольно несдержанной перебранкой, которая достигла до слуха зрителей. Не понимая, в чем дело, но тревожась закулисным шумом, некоторые из публики обратились за разъяснением к сторожу.
— Что это у вас там такое?
— Да чему там быть? — ответил сторож, любивший иногда пофилософствовать: — уж коли такой крик, так, стало быть, драка, а, может быть, и пожар.