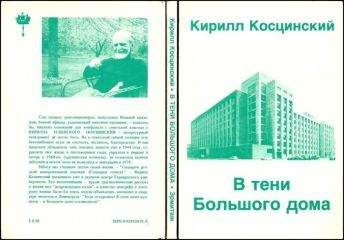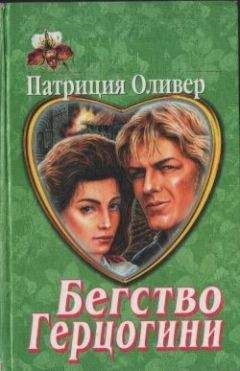Сюрпризы в моем деле не кончились на показаниях Гансовского-Чугуновой.
Были еще изобличающие меня показания полковника Е. Шаповалова, преподавателя тактики в Военно-политической академии им. Ленина, когда-то моего подчиненного, с которым мы неожиданно встретились в середине 50-х годов и восстановили приятельские отношения. Он пространно описывал мое отрицательное отношение к политработникам, которых я называл безграмотными бездельниками и доносчиками, мое негодование по поводу венгерских событий и, для равновесия, приписывал мне несовершенные мною боевые подвиги.
Был еще генерал М. Алябин, командир дивизии, а в 1944 г., когда я после изгнания из партии и из разведки ехал в полк — заместитель начальника штаба дивизии. Бесшабашный весельчак и пьяница, редко бывавший трезвым как в годы войны, так и после нее, он сообщил мне тогда, что вдогонку мне пришел приказ НКО о присвоении мне звания подполковника, и сам приколол к моим погонам недостающие звездочки. Приказ был довольно старый, его, видимо, попридержали в штабе армии, чтобы я не имел оснований отказаться от назначения на должность начальника штаба полка — это было сильным понижением, а служебные отзывы у меня были безупречные.
В 1956 г. мы встретились с Алябиным в Одессе, куда я попал на «военно-писательские» сборы, а он командовал полком. В Одессе оказалось множество моих фронтовых знакомых — и в штабе округа, и в штабе расположенной в городе дивизии, с командиром которой я кончал когда-то военное училище. Сборы были пустые, мы — человек пять литераторов — проводили их главным образом на пляже, а по вечерам, если не шли в ресторан, я оказывался у кого-либо из армейских приятелей. У меня был с собой «Теркин на том свете» — в первом варианте, значительно более сильном, чем тот, что был опубликован шесть лет спустя, я всюду читал его — под слезы и хохот окружающих.
Все кончилось хорошо, мы, «письменники», разъехались по домам — это было в августе, а четыре года спустя, знакомясь с делом, я наткнулся на донос — именно донос! — Алябина, написанный почему-то через полгода после нашей встречи, в феврале 1957 г. Почему он так долго медлил? Терзался между угрызениями совести и партийным долгом? Или это была плата за генеральское звание и командование дивизией? Донос начинался классической фразой: «Желая узнать политическое лицо Успенского ближе, я пригласил его к себе, сказав жене, чтобы ⁄она⁄ приготовила достаточно водки и закуску получше (...). Я еще в годы войны знал, что он исключен из партии за троцкистские взгляды» (л/д 180).
Когда в 1967 г., уже после моей отсидки, мы столкнулись с Алябиным в Ногинске на встрече ветеранов 40-ой гвардейской дивизии, он прошел мимо, даже не взглянув в мою сторону (бывший троцкист все же!), а его жена, Тоня, бывшая когда-то связисткой в штабе дивизии, улучив минуту, обняла меня и шепнула: «Не сердись на меня, Кирилл. Я здесь ни при чем».
Три года спустя Алябин умер естественной для этого типа людей смертью — от алкогольного отравления.
Удивил меня и И. Годлевский. Он был одним из тех пяти-шести художников, в мастерские которых я водил Леонарда Бернстайна и его оркестрантов. Годлевского я знал мало: его пасынок учился в школе вместе с моим сыном, раз или два я был в его мастерской. Для американцев он был, конечно, экзотичен: он писал суздальские, владимирские, угличские пейзажи в манере Альбера Марке. Мои приятели купили у Годлевского восемь или десять холстов на 11 тысяч (старых) рублей — по его собственным подсчетам, — за которые он не взял ни копейки, обязав их расплатиться альбомами по искусству. Говорят, что сейчас у него одно из лучших собраний подобных изданий в городе.
Через день или два после обыска Годлевский, ничего не зная об этом, позвонил мне, пригласил на день рождения. Я ответил, что очень занят и не смогу придти, а еще через день или два, при встрече, извинился и рассказал, почему не пришел. Он был возмущен до крайности:
— С-сволочи! Когда это, наконец, кончится?!
Недреманое око госбезопасности приметило и Годлевского. На следствии он дул в дудку следователя: Успенский охаивал все и вся, да еще навязал ему, Годлевскому, американцев и в разговоре с ними — с американцами! — восхвалял американский образ жизни.
Это гос-безопасное око несомненно приметило и других людей, с которыми я общался, но вызывались они на следствие очень избирательно. Не вызывали крупных писателей — Веру Панову, Ольгу Бергольц, не вызывали и таких, с которыми могла произойти ошибка, подобная той, что вышла у них с Кучеровым. Любопытно, что протоколы допросов нескольких человек — о том, что они вызывались и допрашивались, было ясно из каких-то оговорок и проговорок то Кривошеина, то Рогова, — отсутствовали. Были ли это «свои» люди, агентура, которую они не хотели раскрывать? Так, например, отсутствовал протокол допроса Константина Ларина (Лоренца), московского журналиста, долго сидевшего по причине своего немецкого происхождения, реабилитированного в 1956 г. и в мае 1960 г. ездившего со мной в командировку от «Литературной газеты». Кривошеин часто ссылался на его показания, весьма для меня невыгодные. Почему их не было в деле и имя его ни разу не упоминалось на суде?
Комический эпизод произошел в связи с Леонардом Бернстайном.
Не могу сказать, что я общался с ним очень много, и еще менее, что мы с ним были «близко знакомы», но виделись мы несколько раз, в Москве и в Ленинграде, в гостинице и у меня дома. Однажды он пригласил меня к обеду. В тогдашнем «Восточном» ресторане (ныне «Садко») за большим круглым столом сидело человек пять, среди них жена Бернстайна, второй дирижер оркестра — недавно умерший Том Шипперс, корреспондент «Нью-Йорк Таймс», имени которого я не помню, и дама лет тридцати-сорока, с тяжелым, хмурым лицом. Бернстайн представил всех друг другу.
— А вот это миссис Шульгин, наша прелестная переводчица («Ах, ну и льстец», — подумал я), без которой мы чувствовали бы себя здесь как в дремучем лесу.
Миссис Шульгин, несмотря на свое хмурое лицо, принимала оживленное участие в разговоре. Говорила она с отчетливым американским, пожалуй, нью-йоркским акцентом. Разговор касался каких-то бытовых тем, и миссис Шульгин довольно резко критиковала систему сервиса в Советском Союзе и в «Интуристе». Улучив момент, я спросил ее, не родственница ли она Василия Витальевича Шульгина, бывшего издателя и редактора «Киевлянина» и члена всех трех Государственных дум. Я тогда не знал, что Шульгин в 1944 г., в шестидесятивосьмилетнем возрасте был арестован в Белграде и, кажется, вместе с генералами Красновым и Шкуро привезен в Москву, где получил свои 25 лет. После двенадцати лет владимирской «крытки» он был помилован и получил разрешение жить во Владимире. Уже в лагере я прочитал его знаменитое обращение к эмиграции, в котором, никак не открещиваясь от своего прошлого, он призывал своих компатриотов внимательнее присмотреться к советской действительности (как-то не очень уверен я в том, что обращение это было вполне искренним). Уже на воле, году в 1966-ом, я увидел эрмлеровский фильм «Свидетель истории», в котором восьмидесятишестилетний старец, несмотря на все усилия режиссера, никак не втискивается в узкие рамки пропагандистского фильма. Даже в самом финале, встретившись в кремлевском Дворце съездов (совершенно случайно, конечно!) со своим девяностолетним и куда более бодрым ровесником, Ф. Н. Петровым, он не может дослушать до конца обличительную речь старейшего большевика и, гневно пристукнув своей палочкой, уходит из дворца и из фильма.