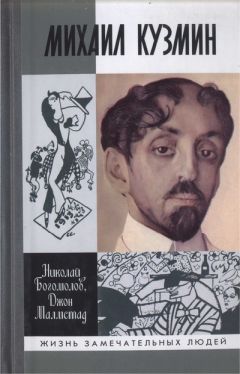Не менее выразительно описание прогулок Вани с Мори по Флоренции, которое дополняет то, что мы уже знаем из письма Кузмина:
«Они ходили с утра по Флоренции, и монсиньор певучим громким голосом сообщал сведения, события и анекдоты как XIV-го так и ХХ-го веков, одинаково с увлечением и участием передавая и скандальную хронику современности и историйки из Вазари; он останавливался посреди людных переулков, чтобы развивать свои красноречивые, большею частью обличительные периоды, заговаривал с прохожими, с лошадьми, собаками, громко смеялся, напевал, и вся атмосфера вокруг него — с несколько простолюдинской вежливостью, грубоватой деликатностью, незамысловатая в своей поучительности, как и в своей веселости, — напоминала атмосферу новелл Саккетти. Иногда, когда запас рассказов не доставал его потребности говорить, говорить образно, с интонацией, с жестами, делать из разговора примитивное произведение искусства — он возвращался к стариннейшим сюжетам новеллистов и снова передавал их с наивным красноречием и убежденностью.
Он всех и все знал, и каждый угол, камень его Тосканы и милой Флоренции имел свои легенды и анекдотическую историчность».
Именно так, через впечатления от каноника Мори и его приземленной духовности, столь связанной с природой, историей, бытом Тосканы, входил Кузмин в атмосферу католицизма, в котором искал выхода из обуревавшего его водоворота чувств[103].
Если читатель помнит, цитата из большого письма Чичерину обрывалась на том, что Мори назвал Кузмина святым Луиджи. В следующем абзаце письма — пояснение этого названия: «Свят<ым> Луиджи меня часто называют здесь, находя поразительное сходство во мне с портретами и образами Св. Алоизия Гонзаги. Я не видел портрета, но читал жизнь этого очаровательного иезуита, умершего на 25 году. Весь проникнутый его жизнью, выводя мистические мелочи из того, что он похож на меня и умер на 25 г<оду>, тогда как я обращаюсь на 25 г<оду>, я, презрев правило, запрещающее спрашивать, а предпис<ывающее> только отвечать и повиноваться, спросил, в силах ли я подражать и продолжать Его жизнь. М<ори> сказал, что он чувствует и ручается, что да».
Именно личное приятие в душу образа святого едва не привело Кузмина к обращению в католицизм, что было бы не слишком странно на фоне довольно многочисленных в XIX веке обращений, но для знающего дальнейшую жизнь Кузмина выглядело бы почти невероятным. Это чувствуется и в письме от 1 июня, в котором Кузмин говорит: «И это забвение, как и покорность (имеется в виду окончание истории с Луиджи. — Н. Б.,Дж. М.), явилось вдруг внезапно и ясно, после того, как я прочел жизнь св<ятого> Luigi Gonzaga. Все так говорили, что я похож до странного на св. Луиджи, даже видящие в первый раз, что я с особенным вниманием читал жизнь этого очаровательного иезуита и по мере сил стараюсь ему подражать, чтобы походить не только лицом и продолжить его жизнь, т. к. он умер как раз на 25 году. Теперь я в полном devotion de St. Louis Gonzaga[104] (совпадение имен тут решительно ни при чем)».
Однако к настоящему обращению все это не привело, Кузмин так и остался православным. Причин здесь могло быть несколько, но, видимо, главные относятся к его собственному психологическому состоянию. В письме, написанном Чичерину через год, он сообщает, что во Флоренции им владела «жажда окончательной порабощенности», но такая жажда не могла продолжиться долго, в характере Кузмина не было черт, позволивших бы ему долгое время испытывать минуты духовного умиротворения, приближающегося к мистическому экстазу. Видимо, он действительно пытался очиститься аскезой и молитвой от того, что в данный момент почитал грехом, пытался заместить чувственные переживания религиозным и мистическим опытом. Имея в качестве идеалов двоих из величайших аскетов и мистиков католической церкви — святого Франциска и Алоизия Гонзага, Кузмин поставил себе благородную цель. Но это был недостижимый и невозможный идеал. И к тому же он начал сомневаться не только в себе, но и в тех, на кого рассчитывал при своем возможном обращении.
Очевидно, что в характере той религиозности, которой обладал Мори, для Кузмина было довольно много привлекательного, и на протяжении почти всей его дальнейшей жизни мы будем видеть, как успешно ему будет удаваться в искусстве претворять земное, повседневное, «низкое» в чистую духовность своих произведений. Но в то же время его не могло не раздражать, что его собственные духовные терзания Мори воспринимал столь же заземленно, как и все остальное: «…он не тонок и мало понимает меня и вообще нервные явления. Когда я убегал от всей их болтовни в темную комнату, он думал, что у меня болит голова и самые частые вопросы его были: „Avez vous besoin de quelque chose?“[105], подразумевая расстройство желудка. Конечно, я имел большую надобность, но не в ватерклозете. И вышло то, чего надо было ожидать: мой ум, не занятый ничем, сбрасывал свой élan[106] со святости» (недатированное письмо).
Совершенно откровенно говорит об этом Кузмин в письме, написанном совсем незадолго до отъезда из Италии, отъезда, вызванного, как мы помним, отчасти и глубинным неудовлетворением тем, что ему мог дать Мори: «М<ори>, впрочем, для спокойствия посоветовал мне показаться врачу по нервным болезням, которого он хорошо знает и здесь он лучший. Тот основательно осмотрел меня, но, не найдя ничего, предписал только ежедневные тепловатые ванны. <…> Нужно найти людей, которым я мог бы слепо отдаться, которые бы видели, в чем и как я могу поработать Господу, направили бы меня и довели до святости; и я ищу» (11 июня).
Из этого письма очевидно, что Мори для него таким человеком уже не был. И хотя Кузмин сохранил к нему теплое чувство, которое отразилось на том портрете Мори, который дан в «Крыльях», желание уйти из-под его непосредственного влияния возобладало. Кузмин возвращается в Петербург, но его письма Чичерину приобретают характер страстного желания обрести нового духовного руководителя. Иногда даже возникает мысль вернуться под водительную руку Мори, но она явно оказывается нежеланной, и хотя навязчиво возвращается, все же ясно чувствуется, что Кузмину нужен кто-то иной и, может быть, вообще из иной сферы, не религиозной (хотя религиозные поиски его еще затянутся на несколько очень значимых в жизни лет).
В недатированном письме, написанном, видимо, 14 июля, уже в Петербурге, Кузмин говорит: «Дорогой Юша, пишу тебе письмо большой для меня важности и прошу твоего искреннего совета, будучи вполне откровенным. Полезно ли или нет дальнейшее мое пребывание с М<ори>, а следовательно, необходимо ли оно или вредно, т. к. теперь все, что не полезно — вредно. Не подумай, ради Бога, что я неблагодарный, или тягощусь путем к святости, или пишу под влиянием минуты. Я давно (сравнительно) хочу тебе сказать, какие основания я имею сомневаться, чтобы это был путь к совершенствованию. Ты знаешь, что Бог совершил чудо, вдруг преобразив мою почти пылающую и противящуюся душу в пассивность и полнейшее подчинение. Я сам не верил себе, т<ем> более, что я должен был не только допустить, но сам разрушить свой безумный призрак. Я вечно тебе и М<ори> благодарен, хотя вы мне причинили и причиняете много горя. Но вот вопрос: М<ори> прекрасно, хотя и преувеличенно хитро, разрушил матерьяльные затруднения, показал себя хорошим хирургом (хотя для души он не сказал ничего нового; Бог совершил чудо через него, и потом, как это ни странно, священник, особенно католический, для меня всегда лицо власть имущее, которому я должен повиноваться), но хорош ли он для восстановления здоровья, я не знаю».