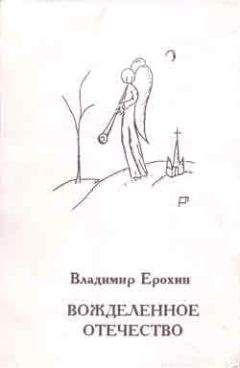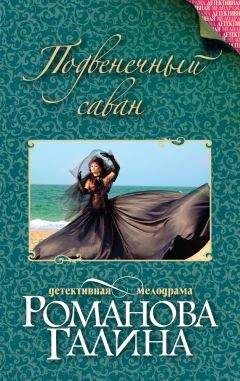— И чтоб до понедельника я вас в лаборатории не видел! И чтоб сегодня же встретил вас в кафе пьяным и не думающим ни о чем!
(Во многом этому способствовала художественная чушь, печатаемая в журнале "Юность".)
Ещё мы слышали о "невидимых колледжах" и некоем научном центре в США, сотрудники которого сами составляют себе график работы, включая и присутственные часы, — иначе говоря, работают по своему собственному свободному расписанию. Это вдохновляло. После "дневной тюрьмы" советских учреждений "невидимый колледж" представал воображению этаким волшебным градом Китежем с тремя библиотечными днями в неделю. Реальностью же в конце концов стали для нас стеклянно-бетонные (почти по четвёртому сну Веры Павловны) стены института с неудобопроизносимым длинносокращенным названием ЦНИПИАСС, куда собрались мы, десять намучившихся сидением по разным скучным конторам искателей истины, а проще говоря « — философствующих бездельников, — на первый установочный семинар научно-методологического отдела.
— Когда будем собираться? — не очень уверенно спросил наш свежевыпеченный шеф.
Договорились, что по понедельникам и средам — изучать "Науку логики" и "Феноменологию духа".
(Мой однокурсник спросил как-то Арсения Чанышева на лекции, понимает ли кто-либо из современных философов систему Гегеля адекватно, — на что получил вполне добросовестный и авторитетный ответ:
— Может, и есть какой-нибудь один чудак...)
Юра Будаков читал ночами Гегеля и, не понимая ровно ничего, от отчаянья впадал в запой. Затем — снова читал и снова пил — причём уже не "горькую", а "мёртвую". А Коля Сверкун штудировал Канта и получал от этого, как он говорил (с весьма характерным мягким южнорусским акцентом), "неизъяснимое блаженство ".
...Крутился диск магнитофона, наматывая, как дерево — кольца лет, — метафизическую рефлексию.
— Постарайся не кончать, — попросила докладчика Аня Пуляева.
— Вредно, — ответил Стас Галилейский, очень довольный своей шуткой.
У него была оригинальная физиономия: треугольная в профиль, ромбовидная анфас...
Собственно рефлексии меня обучал Георгий Петрович Щедровицкий — философ с умным и благородным лицом квалифицированного рабочего.
— Новую мысль выразить легко, — говорил он, — если она есть. Иное дело — когда её нет.
Щедровицкий вёл блистательные сократические диалоги с учениками.
(Пожалуй, Сократ был одной из немногих философских утех в годы запрета всего нематериального. Интересно, как оценивали себя сами марксисты — как венец стихийного, но закономерного саморазвития материи? И как было не материться в стране, господства двух материализмов — диалектического и исторического?)
— Кто ясно мыслит, тот ясно излагает, — говаривал Георгий Петрович.
В пылу самого яростного спора он мог сказать:
— Я рассуждаю, может быть, и неправильно, но по-своему логично.
Иногда он парировал доводы оппонента так:
— В чем вы меня упрекаете? В том, что я понимаю это?
Или:
— Возможно, вы и правы — но какое мне до этого дело?
Он считал, что человечество не умеет мыслить, и что его можно этому научить. Лично меня, правда, особенно не обнадёживал.
— Сначала вы будете учиться мыслить, — прогнозировал он во время наших вечерних прогулок.
— Потом — создавать себе для этого условия. А там — на "мыслить" останется — всего ничего.
Щедровицкий полагал, что гуманизм проистекает из неуважения к человеку, недоверия к нему: людям внушают, что они живут неправильно, не так, как нужно, сами не понимая всей глубины своего несчастья; и навязывают им, иногда и силой, новую, счастливую жизнь, — которая этим людям, может, и даром не нужна.
Не признавал он и никаких авторитетов, говоря:
— Что мне предки? Я сам себе предок.
Друзья дразнили .его "Фёдором" — не знаю, почему.
Он презирал учёные советы, предпочитая им лыжные трассы в Серебряном бору.
Щедровицкий не уставал повторять, что человечество не умеет мыслить, и научить его этому считал своей главной задачей.
Помню обронённые им фразы:
— Мне много раз твердили о конце света — а я шёл и работал.
И:
— Вдруг может произойти все, что угодно, — но, как правило, не происходит.
И ещё:
— Ничего не надо делать слишком явно.
Чтобы жить в Москве, нужна была прописка.
— Но ведь факультет журналистики — это факультет отчаянных девиц? — полувопросительно изрёк Георгий Петрович, выковыривая ложечкой мякоть из помидора.
За Щедровицким тянулась, не знаю, заслуженная ли им, слава хорошего любаря.
В студенческие годы он изучал "Капитал" и, не понимая в нем ничего, стал переписывать от руки и переписал его весь — полностью. После чего заинтересовался вопросом: а кто из отечественных марксистов вообще сам читал Карла Маркса? И выяснил, сопоставляя ссылки, конспекты и частные письма, что последним его действительно добросовестно прочёл. Плеханов. Все же прочие авторы пользовались компиляциями, критическими статьями и обзорами своих предшественников — включая Ленина, Троцкого, Сталина, Бухарина, — которые переписывали одни и те же цитаты друг у друга, а восходили все к тому же Георгию Валентиновичу, а вовсе не к Карлу Генриховичу, чьи сочинения в изобилии пылились во всех библиотеках, но прочитать их не хватило духу ни у кого.
(Известно было и то, что всемирный учитель диалектики "Георгий Фёдорович" Гегель написал свои лучшие сочинения под пиво: содержательный анализ текстов, проделанный специалистами-наркологами, показал весьма характерные признаки отравления синильной кислотой, выделяемой при неумеренном потреблении хмельного. Поэтому и понять Гегеля можно было только под пиво — желательно тёмное, а лучше всего — баварское.)
Был у Щедровицкого трогательно преданный ему друг Володя Костеловский — рослый худощавый человек в лоснящемся пиджаке — "совопросник века сего", аккуратно посещавший все дискуссии. У него была своя история.
Осенью 45-го года воинская часть, в которой Володя служил, стояла в Болгарии, напротив Турции. Костеловский готовился поступать на философский факультет и поэтому изучал знаменитую четвёртую главу "Краткого курса истории ВКП(б)", содержавшую в сжатом виде всю философию марксизма. А поскольку понять там было, ничего нельзя, он заучивал её наизусть. Кто-то стукнул политруку.
Тот сперва не поверил, что солдат читает "Краткий курс", но все-таки вызвал к себе рядового Костеловского и лично убедился в том, что тот цитирует четвёртую главу на память.
Володю уволили из армии со следующей характеристикой: "Заучивал секретные сведения с целью передачи их врагу".