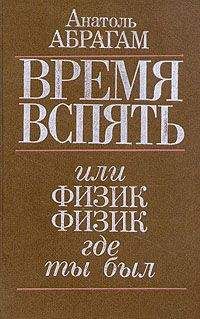Анатоль Абрагам - Время вспять
На электронном книжном портале my-library.info можно читать бесплатно книги онлайн без регистрации, в том числе Анатоль Абрагам - Время вспять. Жанр: Биографии и Мемуары издательство "Наука". Физматлит, год 2004. В онлайн доступе вы получите полную версию книги с кратким содержанием для ознакомления, сможете читать аннотацию к книге (предисловие), увидеть рецензии тех, кто произведение уже прочитал и их экспертное мнение о прочитанном.
Кроме того, в библиотеке онлайн my-library.info вы найдете много новинок, которые заслуживают вашего внимания.

Анатоль Абрагам - Время вспять краткое содержание
Узнав, что Абрагам написал автобиографию и даже переводит ее на русский язык и получив первые главы ее, я тут же начал их читать, получил огромное удовольствие и решил приложить свои усилия, чтобы эта книга как можно скорей стала доступной широкому кругу советских читателей. Широкому кругу потому, что она должна быть интересна не только физикам и не только ученым. Это связано прежде всего с тем, что Абрагам очень много путешествовал (это автор отразил в заглавии книги). Читатель найдет в ней описание школьной жизни в Москве в начале 20-х годов, привыкание к парижскому лицею, переживания автора во время оккупации Франции фашистскими войсками. Автор подробно рассказывает о разных типах Высших школ (Grandes Ecoles) во Франции. Особенно интересно описание сохранившихся старинных обычаев английских университетов (Оксфорд). Живо написаны и впечатления о путешествиях в США, Канаду и страны Дальнего Востока. Очень актуальна глава «Запад и Восток».
Для ученых всех специальностей интересны соображения (большей частью критические) об организации образования и об организации и финансировании науки в разных странах. Абрагам занимал почти все административные посты в Комиссариате по атомной энергии во Франции, был членом Координационного Совета ЦЕРН'а. Он подробно рассказывает, что такое Коллеж де Франс, профессором которого он является, и как выбирают во французскую Академию наук (Абрагам член Академии с 1973 года). Абрагам встречался с очень большим числом выдающихся людей (не только ученых), краткие, но яркие образы которых даны в книге.
Вся книга пронизана характерным для Абрагама чувством юмора, что доставляет читателю особенное удовольствие. Он собрал большую коллекцию анекдотов про всех крупных физиков. Абрагам очень широко образованный человек, в его книге много цитат из произведений русских и иностранных авторов. Иногда, чтобы понять о чем идет речь, мне приходилось обращаться к энциклопедии. В таких случаях я писал примечания, чтобы избавить некоторых читателей делать то же самое.
Наконец, читателям-физикам я хочу сказать, что они получат кроме тех удовольствий, о которых я уже писал, большое удовлетворение от чтения чисто физических рассуждений, в которых автор исключительно наглядно объясняет весьма сложные физические понятия, связанные как с изложением существа своих собственных открытий, так и некоторых других физических проблем.
В заключение, следует подчеркнуть незаурядный литературный талант Абрагама. Он пишет своеобразным языком. И не потому, что забыл русский язык или не владеет современным языком. Это своеобразие доставляет особенное удовольствие, когда вчитаешься в книгу всерьез. Однако, оно доставило трудности редакторам книги. Трудно было удержаться, чтобы не переделать отдельные фразы. Полностью это стремление преодолеть не удалось.