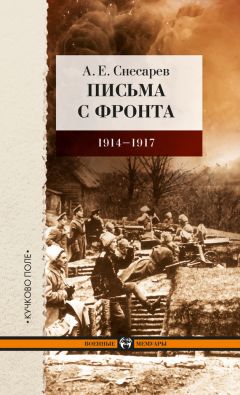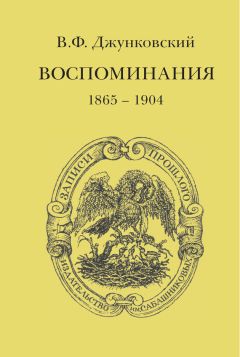Ознакомительная версия.
Я увлекся, женушка, глупостями и не заметил, как исписал свои положенные два листа. Сейчас, ты знаешь, помощниками воен[ного] министра два полковника Ген. штаба. У нас подметили закон – чем левее военный министр, тем моложе летами и чином его помощники: при генерале Сухомлинове помощниками были полные генералы, при А. И. Гучкове – ген[ерал]-лейтенант и ген[ерал]-майор, при А. Ф. Керенском – два полковника, а при будущем, который будет еще левее, будут два грудных младенца, а при том, который будет еще левее, помощниками будут две беременные бабы, т. е., строго говоря, не они сами, а их утробные мальчики…
Вчера получил от полкового комитета одного из полков приглашение посетить их заседание; я – тотчас же на лошадь и прибыл к ним (это собрание офицеров (человек 5) и солдат (человек до 60 с ротными)). Сначала мы обсуждали текущие дела – наши и политические, спорили, немного горячились, а потом я со всеми ними снялся, и притом по-новому: я на земле с плотно сидящими вокруг меня солдатами, а сзади стоят офицеры и часть других солдат. Я говорю ребятам: «Там в тылу говорят глупости, что мы не дружно здесь живем… Вот я и пошлю в журнал нашу карточку: пусть смотрят и учатся, как в окопах живут офицеры и солдаты, да вперед глупостей не говорят». И ребята мои довольны, смеются, и мы расстаемся по-хорошему и еще большими друзьями, чем были раньше. Посылаю тебе две карточки: я в моем садике 8 мая (я в штиблетах и обмотках, как теперь часто хожу) и проводы Н. Д. Ещенко, моего прежнего начальника штаба, у крыльца его дома 29 апреля.
Давай, моя ненаглядная, твои губки и глазки, а также наших малых, я вас всех обниму, расцелую и благословлю. Ваш отец и муж Андрей.
Целуй Алешу, Нюню, деток. А.
7 июня [1917 г.]. Почтовая карточка Евгении Васильевне Г-же Снесаревой. Гор. Острогожск Воронежской губернии. Дом священника О. Алексея ТростянскогоДорогой жен!
Сижу в Харькове на вокзале, куда прибыл довольно своевременно – опоздал на 6 часов. В 8 (20) часов тронусь дальше. В маленьком купе было только два пассажира; генерал, едущий на позицию, властно приказал открыть купе и до 7 1/2 часов спал – маялся рядом с ксендзом, а с 7 1/2 перешел на уступленную верхнюю полку… спал до 11 1/2. Прошу себе 2-ю порцию ягод. В глазах стоят твое лицо, протянутое для поцелуев, и бегущая фигура Генюшки – славного мальчика. Тебя и всех обн[имаю], цел[ую] и благ[ословляю]. Андрей.
12 июня 1917 г.Дорогая моя женушка!
Хотя приехал уже позавчера, но пишу только сегодня: с места пришлось так много работать, распоряжаться и говорить, что дыхнуть некогда было. Без меня все тут откладывалось «до приезда», в полках мой заместитель ни разу не был, и весь груз сразу лег на мою спину. Сейчас я живу на 8 верст южнее того места, из которого я выехал к своей женушке, а на днях вновь переберусь к Катаринче… околдовала меня эта девица красная. О дороге рассказывать тебе долго (из Харькова я послал тебе открытку); ехал я 7, 8 и 9-е числа, и только в полдень 10-го, побывав в корпусе мимоездом (комкор живет в моем доме), я доехал до себя, где меня ожидали Осип и Игнат, и пред которыми я начал высылать свои дорожные впечатления. Осипу (который кивает головой своей жене) я не дал говорить, так как он меня иначе засыпал бы своим огромным запасом пережитого.
Меня перебили двумя докладами, и я вновь берусь за перо. Среди второго доклада вдруг приносят твое письмо… спешу раскрыть, думая, что оно написано после моего отъезда; оказалось от 21.V, т. е. за два дня до моего приезда. Прочитал с большим интересом, так как мне все ясно, и твоя окраска тем более мне делается понятной… «ребята все трясутся» из-за пломбира, так кончила ты свое письмо. Характерно также, что приводимое тобою письмо от Валериана Ивановича начато так: «Мн[огоуважаема]я Е[вгения] В[асильевна], тяжелые времена…», а там ты мне читала: «Дорогая Е[вгения] В[асильевна], не могу иначе вас назвать…» или что-то в этом роде. И читая со вниманием все твое письмо, я все время сопоставлял твою картину с тою действительной, которую я видел… Но возвращаюсь к своей теме.
Перегоны Острог[ожск] – Харьков и Харьков – Киев я ехал сравнительно удобно. В Харькове в мое купе сели старушка с дочкой, а у последней на руках 2–3 летняя хорошенькая девочка. В момент их посадки у матери украли кошелек с 25 руб[лями] денег, а билеты из него подбросили… жаль стало. Мы дружно стали искать, не нашли, но разговорились. Они ехали из Тифлиса, много настрадались, чуть не раздавили или простудили своего ребенка. Все это было мне рассказано живо и нервно. Молодая дама ехала, разошедшись со своим мужем (инженер-грузин), ехала на отдых к своим родным, а затем собиралась начать новую жизнь. Оказалось, что она дочь военного и институтка. Простая, немного наивная, очень волнующаяся из-за девочки, политически прочная. Уже незадолго до их схода (я с ними проехал три часа) я ее спросил, какого она института. «Оренбургского». – «Знаете Евгению Зайцеву?» – «Женю! Как же! Усольцева говорила, что у нее уже два мальчика и что она была в Лондоне». – «Усольцева вам сказала неправду; у бывшей M-lle Зайцевой два мал[ьчика] и одна девочка, а была она не в Лондоне, а в Италии и Франции…» Пришлось мне открыть причину моего детального знакомства с деторождением M-lle Зайцевой, и мы заболтали пуще прежнего. Моей собеседницей оказалась Ксения Никол[аевна] Сухина выпуска 1905 года. Свою историю она рассказала мне с некоторой подробностью, и мне стало грустно от ее неприхотливого рассказа о том, как зло и странно сложилась ее недлинная семейная сказка; а мать завершила ее слова фразой: «Нехорошо, когда русская девушка выходит замуж за инородца… разные люди получаются под одной кровлей, да и не любят нас, русских, все эти наши инородцы…» И я согласился с этим заключением, добавив, как эта вся когда-то нами завоеванная орда быстро спешит от нас оторваться, едва только она почувствовала нашу слабость.
От Киева я ехал во 2 классе, и нас – на двух длинных и двух коротких скамейках плюс этот проход – было 14 человек. Я спал сидя, качаясь из стороны в сторону и принимая разные позы. Компания моя была самая разнообразная. Было тесно и душно, но мы болтали без умолку, шутили, и смех звучал привольно. От Тарнополя я ехал еще теснее, хотя мне офицерством была представлена верхняя полка, и я мог соснуть. Духота была умопомрачительная. От станции недалеко пред позицией я поехал уже в теплушке вместе с солдатами. Я и здесь как генерал пользовался некоторыми преимуществами, т. е. сидел на доске, у самой двери, вне табачного дыма. Болтовню я завел с ребятами без конца, смешил их, но смешили и они меня. Я им рассказал, напр[имер], что сам слышал накануне: в Москве манифестация с плакатами «Долой войну», «Довольно бойни» и т. п. Манифестанты останавливаются – и начинаются речи. Между другими поднимается один оратор и говорит: «Ведь это, братцы, никак нельзя; мы-то прекратим войну, а германец-то нет, он пойдет дальше и отберет у нас Киев и Смоленск. Неужто вы эти города отдать согласны?» Орут: «Согласны». «Да подумайте, братцы, что же вы это говорите, как не грех; ведь противник еще дальше пойдет и заберет Москву; и первопрестольную вы отдать согласны?» Орут: «Согласны». Тогда оратор, как будто что-то сообразив, говорит: «Стой, братцы, что же, братцы, нам всю-то Москву отдавать, давайте хоть один дом сохраним… Согласны, что ли?» Орут: «Согласны». «А какой же, братцы, нам дом сохранить?» Толпа в недоумении молчит. Тогда оратор усиливает голос: «Так вот, что я вам скажу, братцы, сохраним-ка мы дом умалишенных, чтобы было куда спрятать вас, предателей своей страны и дураков, повторяющих глупо слова, которых не понимаете». Толпа не скоро раскусила, по крайней мере так не скоро, что оратор успел улизнуть.
Ознакомительная версия.