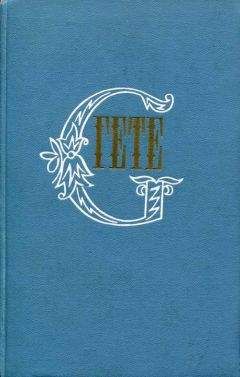Ознакомительная версия.
— Вам ставят в упрек, — несколько неосторожно заметил я, — что в то великое время вы не взялись за оружие и даже как поэт не участвовали в борьбе.
— Оставьте это, мой милый, — отвечал Гёте. — Абсурдный мир, увы, больше не знает, чего ему желать. Пусть говорят и делают, что им вздумается. Как мог я взяться за оружие, если в сердце у меня не было ненависти! Не могла она во мне разгореться, ибо я уже был немолод. Если бы эти события произошли, когда мне было двадцать, я бы, вероятно, был в первых рядах, но мне в то время шел уже седьмой десяток.
К тому же не все мы служим отечеству одинаково, каждый делает наилучшее, в зависимости от того, чем одарил его господь бог. Много я положил трудов и усилий в течение полусотни лет. И смело могу сказать, что в делах, для которых предназначила меня природа, я не давал себе ни отдыха, ни срока, никогда не давал себе поблажек и передышек, вечно стремясь вперед; исследовал, работал, сколько хватало сил. Если бы каждый мог сказать о себе то же самое, все обернулось бы к общему благу.
— В сущности, — сказал я, стараясь смягчить впечатление, произведенное моими словами, — вы должны были бы гордиться этим упреком. Он лишь свидетельствует, как высоко ставит вас человечество, но, зная, сколь многое вы сделали для просвещения своей нации, они хотят, чтобы вы сделали все.
— Не стоит говорить, что я об этом думаю, — отвечал Гёте. — За таким требованием кроется больше злой воли, чем вы полагаете. Я чувствую, что это лишь новая форма старой ненависти, с которой меня преследуют уже невесть сколько лет, тщась исподтишка мне напакостить. Я знаю, для многих я, как бельмо в глазу, и они жаждут от меня избавиться. А поскольку теперь меня уже нельзя поносить за особенности моего таланта, они придираются к моему характеру. Объявляют меня то гордецом, то эгоистом, твердят, что я завидую молодым талантам, что мое основное занятие — предаваться чувственным наслаждениям. То я чужд христианства, то, наконец, начисто лишен любви к своему отечеству и нашим добрым немцам. Вы за долгие годы успели хорошо узнать меня и понимаете, чего стоят эти измышления. Но если вы хотите еще узнать, сколько я выстрадал, почитайте «Ксении», из моих реплик вам уяснится, чем меня донимали в разные периоды моей жизни.
Немецкий писатель — немецкий мученик! Да, дорогой мой! Вы сами сможете в этом убедиться. Но мне еще грех жаловаться; другим пришлось не лучше, а пожалуй что, и хуже. В Англии и во Франции происходило совершенно то же самое. Чего только не натерпелся Мольер, не говоря уж о Руссо и Вольтере! Злоязычие прогнало Байрона из Англии; он сбежал бы от него на край света, если бы ранняя смерть не избавила его от филистеров и их ненависти.
Ну если бы еще тупая толпа преследовала людей, поднявшихся над нею. Так нет же! Один одаренный человек преследует другого. Платен портит жизнь Гейне, Гейне — Платену, и каждый из них силится очернить другого, внушить к нему ненависть, хотя земля наша достаточно велика и обширна для мирного труда и мирной жизни, вдобавок каждый в собственном своем таланте имеет врага, доставляющего ему хлопот по горло.
Сочинять военные песни, сидя в свое комнате! Очень на меня похоже! На биваке, где ночью слышно, как ржут лошади на вражеских форпостах, еще куда ни шло! Но это не мое призвание, не моя жизнь, а жизнь Теодора Кернера. Ему его военные песни к лицу, но для меня, человека отнюдь не воинственного и до войны не охочего, такие песни были бы безобразной личиной.
В своей поэзии я никогда не притворялся. Писал лишь о том, о чем молчать мне было невмочь, что само просилось на бумагу. Любовные стихи я сочинял, только когда любил. Как же мог я сочинять песни ненависти, не ненавидя! И еще, но это между нами: французы мне ненависти не внушали, хотя я и возблагодарил господа, когда мы от них избавились. Да и как мог бы я, ежели для меня нет понятий более значительных, чем культура и варварство, ненавидеть нацию, едва ли не культурнейшую на свете, которой я обязан немалой долей своей просвещенности?
— И вообще, — продолжал он, — странная получается штука с национальной ненавистью. Она всего сильнее, всего яростнее на низших ступенях культуры. Но существует и такая ступень, где она вовсе исчезает, где счастье или горе соседнего народа воспринимаешь как свое собственное. Эта ступень культуры мне по нраву, и я твердо стоял на ней еще задолго до своего шестидесятилетия.
Понедельник, 15 марта 1830 г.Вечером провел часок у Гёте. Он много говорил о Иене, о преобразованиях и улучшениях, которые ему удалось провести в тамошнем университете. Он учредил кафедры химии, ботаники и минералогии, тогда как раньше эти науки рассматривались лишь как вспомогательные дисциплины при изучении фармакологии. Но больше всего он содействовал пополнению университетского музея и библиотеки.
Тут он вновь, все так же весело и самоудовлетворенно, рассказал мне историю своего насильственного овладения залом, граничившим с библиотекой; зал этот принадлежал медицинскому факультету, который ни за что не соглашался его уступить.
— Библиотека, — продолжал Гёте, — пребывала в совершенном упадке. Сырое и тесное помещение, никак не приспособленное для достойного хранения имевшихся в ней сокровищ, в особенности после того, как великий герцог приобрел Бюттенерову библиотеку числом в тринадцать тысяч томов, которые грудами лежали на полу, ибо, как я уже говорил, их негде было расставить. Я не знал, как выйти из этого затруднения. Пристроить новое помещение, — но для этого у университета не было средств, к тому же можно было обойтись и без пристройки, как так непосредственно к библиотеке примыкал большой, обычно пустующий зал, который мог наилучшим образом удовлетворить все наши потребности. Однако зал этот принадлежал не библиотеке, а медицинскому факультету, который время от времени использовал его для своих конференций. Итак, я обратился к господам медикам с покорнейшей просьбой: уступить мне зал для библиотеки. Но они к моей просьбе не снизошли. Впрочем, они готовы были ее удовлетворить, если я, и притом немедленно, построю им новое помещение для конференций. Я ответил, что готов отдать распоряжение о строительстве нового здания, но поручиться за немедленное начало работ не могу. Мой ответ их, разумеется, не удовлетворил. На следующее утро, когда я послал к ним за ключом, выяснилось, что его нигде не могут найти.
Мне осталось только силой завоевать злополучный зал. Я велел позвать каменщика и подвел его к стене, отделявшей зал от библиотеки.
«Эта стена, друг мой, — сказал я, — вероятно, очень толстая, так как она разделяет здание на две части. Испытайте-ка ее крепость». Каменщик взялся за дело. После пяти или шести хороших ударов посыпалась штукатурка, кирпичная пыль и в проломленное отверстие стали уже видны портреты почтенных ученых в париках, которыми был украшен зал.
Ознакомительная версия.