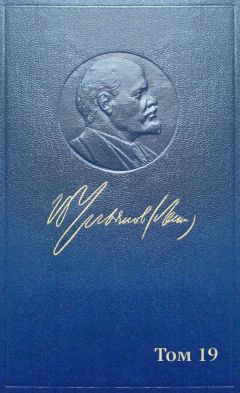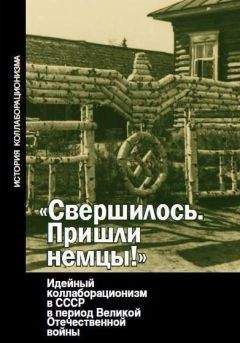— Правда ли?
Похоже было, что я говорю, что все говорят. А я правду сказал.
Л. Н. заметил, что едва ли не больше всех композиторов любит Шопена. Он сказал мне:
— Во всяком искусстве — я это и на своем опыте знаю — трудно избежать двух крайностей: пошлости и изысканности. Например, Моцарт, которого я так люблю, впадает иногда в пошлость, но и поднимается зато потом на необыкновенную высоту. Недостаток Шумана — изысканность. Из этих двух недостатков изысканность хуже пошлости, хотя бы потому, что от нее труднее освободиться. Величие Шопена в том, что как бы он ни был прост, никогда он не впадает в пошлость, и самые сложные его сочинения не бывают изысканны.
Я ушел тогда от Толстых со смутным чувством счастья, что увидал Л. Н. и говорил с ним, и какой‑то горькой обиды за себя…
Меня звали бывать, но, вероятно, никогда бы я не решился по собственной инициативе пойти еще раз к Л. Н.
Вскоре, 27–го января, меня пригласила Татьяна Львовна (его старшая дочь) к ним на музыкальный вечер.
Я пошел. Это было небезызвестное тогда в Москве трио сестер Редер. После этого раза я как‑то вечером рискнул пойти в Хамовники по собственному почину и незаметно стал бывать.
Однажды вечером, подходя в Хамовническом переулке к дому Толстых, я встретил Л.H., который шел гулять. Он позвал меня с собою. Мы пошли по Пречистенке. На улице было пусто и тихо. Прохожие, изредка попадавшиеся нам, почти все кланялись Л. Н. при встрече. Незаметно Л. Н. вызвал меня на разговор о себе. Я увлекался тогда философией пессимизма — бредил Шопенгауэром. Наивно и глупо было, вероятно, все, что я говорил, но Л. Н. слушал меня внимательно и серьезно и говорил со мной, не давая мне почувствовать мою наивность.
Между прочим, Л. Н. сказал:
— Самая полная и глубокая философия — в Евангелии.
Мне тогда, я помню, показалось это странным. Я привык смотреть на Евангелие как на нравственное учение и не понимал, что в его простоте и ясности — вся премудрость глубочайшей мысли.
Раз я встретил Л. Н. на улице. Он опять позвал меня с собою. Мы шли где‑то около Новинского бульвара, и Л. Н. предложил сесть на конку. Мы сели, купили билеты. Л. Н. спросил меня:
— Вы умеете делать японского петушка?
— Нет.
— А вот смотрите.
Л. Н. взял свой билет и очень ловко сделал из него довольно сложного устройства петушка, который, когда потянешь за хвост, — трепещет крылышками. (Один такой петушок, сделанный им в 1897 году, до сих пор сохраняется у меня.)
В вагон вошел контролер и стал проверять билеты. Л. Н. протянул ему, улыбаясь, петушка и дернул его за хвост. Петушок замахал крыльями. Контролер, однако, со строгим видом делового человека, которому некогда заниматься всяким вздором, взял петушка, развернул, посмотрел номер и разорвал.
Л. Н. взглянул на меня и сказал:
— Вот и петушка нашего испортили…
Весною, уезжая в Ясную, Л. Н. и его семья очень радушно звали меня приехать летом туда. Я поехал и провел там время с 6 по 16 июля, а в конце лета ездил еще раз. У меня, к сожалению, мало сохранилось записей от первой поездки и совсем не сохранилось от второй.
В Ясную я приехал 6 июля в двенадцатом часу ночи. Несмотря на поздний час, все еще довольно долго сидели за чаем. Сергей Иванович Танеев (композитор и пианист, летом гостил у Толстых в Ясной Поляне) сыграл сонату Бетховена, opus 26, с варьяциями. Первые части мне не очень понравились. Финал он сыграл превосходно.
Утром я встал рано, ходил со Л. Н. купаться. Л. Н. ежедневно с утра до обеда работает у себя. Он, как мне показалось, был в хорошем настроении.
Утром за кофе он сказал:
— Я себя чувствую так, будто мне 19–20 лет.
В Ясной Поляне тогда бывало шумно и весело. Все почти дети были дома. Женаты были только сыновья Сергей и Илья. Сергей Львович гостил в Ясной со своей женой, Марией Константиновной, рожденной Рачинской. Из остальных детей не было только Андрея Львовича, отбывавшего воинскую повинность в Твери, и Льва Львовича, бывшего, кажется, за границей. В Ясной лето проводил Сергей Иванович Танеев со своей няней Пелагеей Васильевной; с ним жил его, тогда еще весьма юный, ученик Ю. Н. Померанцев. Танеев каждый вечер играл со Л. Н. в шахматы (я не решался заявить о том, что тоже умею играть). Иногда Танеев играл на фортепиано. На фортепиано играл несколько раз и я. Играли мы с Танеевым также на двух фортепиано вторую сюиту Аренского и в четыре руки первый квартет самого Сергея Ивановича. Молодежь играла в теннис, веселилась. В теннис изредка играл и Л. Н. Вечером делали далекие прогулки в лес. Л. Н. любил всегда выбирать «сокращенные» тропинки и заводил всех в чудные лесные места. Надо сознаться, что эти «сокращения» почти всегда очень удлиняли прогулки.
Однажды мы с ним на прогулке сильно отстали. Л. Н. предложил мне:
— Давайте догонять.
И с полверсты мы с ним, я — 21 года, а он — 68–ми, бежали как равные. В другой раз он еще более поразил меня своей физической свежестью: Михаил Львович делал на турнике какое‑то очень трудное гимнастическое упражнение, которое ему плохо удавалось.
Л. Н. смотрел, смотрел, не вытерпел и сказал:
— Дай, я попробую, — и к общему удивлению сразу сделал лучше сына.
В нескольких верстах от Ясной в маленькой деревушке Дёменке жили Чертковы (Владимир Григорьевич Чертков, ближайший друг Л.H., его жена Анна Константиновна, рожденная Дитерихс, и, в то время малолетний, их сын Владимир). Владимир Григорьевич бывал в Ясной постоянно. За обедом он часто веселил зеленую молодежь своими веселыми рассказами. Раз и Л. Н. принял в этом участие. Задавали друг другу шуточные загадки.
Л. Н. спросил:
— Какая разница между печкой и щенком?
Никто не знал. Л. Н. сказал:
— Когда в доме есть лишняя печка, ее не топят, а когда есть лишний щенок — его топят.
Жена Черткова, Анна Константиновна, всегда очень болезненная, бывала в Ясной довольно редко. У Анны Константиновны был небольшой, но прекрасного теплого тембра контральто. Она очень проникновенно пела сектантские духовные песни.
Татьяна Львовна и особенно Мария Львовна (его вторая дочь) каждый день с раннего утра работали на покосе. Возвращались они с работы усталые, но очень веселые. По праздникам Мария Львовна, немножко знавшая домашнюю медицину, лечила на деревне больных (врача тогда в Ясной и нигде поблизости не было). Когда она возвращалась со своей медицинской практики, радостно было смотреть на нее, окруженную пестрой толпой ребят, одних — везущих на себе тележку с медикаментами, других — просто провожавших ее домой.
Мария Львовна была совершенно некрасива, но в ней было высшее обаяние внутренней духовной красоты…