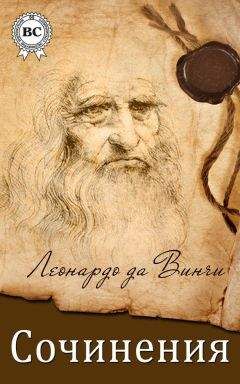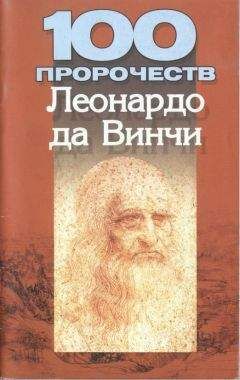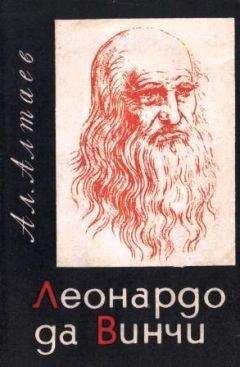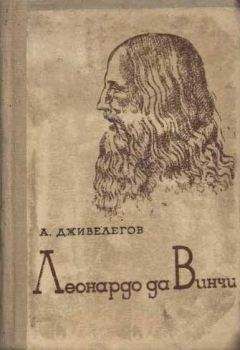Доказано, что все гласные произносятся крайней частью подвижного нёба, которое покрывает надгортанник; и еще такое произнесение зависит от положения губ, которыми дается проход выдыхаемому воздуху, несущему с собой созданный звук. Но хотя бы и губы были закрыты, этот звук выдыхается через ноздри, однако никогда при таком проходе он не станет показателем какой-нибудь из букв. Отсюда можно заключить, что не трахея создает какой-либо звук гласных букв, но ее функция простирается только на создание вышеупомянутого голоса, и особенно при произнесении А, О, И.
Расположившийся посредине листа рисунок, где Леонардо с помощью зеркала изобразил свой язык, окружен столбцами параграфов наподобие того, как живописцы окружают изображение какого-нибудь святого клеймами, последовательно представляющими всю его деятельность; за горящей свечой на столе приспособлено другое, вогнутое зеркало, лучи которого падают таким образом, что на бумаге оказывается ярчайшее белое пятно. Тут-то и помещается рисунок органа, связывающего механические акции тела с духовными и среди других обладающего наибольшею гибкостью и разнообразием движений.
И его главных движений семь, а именно: вытяжение, сокращение и притяжение, утолщение, укорачивание, расширение и утоньшение; из этих семи движений три сложных, ибо не может породиться одно, чтобы не породилось другое, с которым первое соединено по необходимости, чтобы язык сам собой вытягивался и сокращался, ибо ты не можешь растянуть растяжимую материю без того, чтобы она не сократилась и не утоньшилась по всем своим сторонам.
Леонардо время от времени снимал щипцами свечной нагар, и тогда свет ударял в глазницы, и зрачки в изжелта-прозрачной радужной оболочке уменьшались до размеров просяного зерна, а если снова погружались в тень, снова и увеличивались. Отклонясь от стола, он опускал уставшую руку, и тыльная сторона кисти оплеталась венами, своей мощью подобными корабельным канатам; эдакая рука прилична ветхозаветному Моисею, как и борода, при свете огарка отливающая золотом, хотя невозможно сразу определить цвет, присущий ей от природы, равно как и возраст ее обладателя.
Скрипнув ставнею, двинулся ветер; издалека донеслось пение петуха, и ему отозвались петухи ближайших приходов; заскрипел ворот, и заплескалась вода в ведре; послышалось шарканье; кто-то закашлялся спросонья – и тут самым низким контральто запел петух Корте Веккио. Рассвет проник в нишу окна, свеча вспыхнула и погасла; фитиль зашипел, распространяя дым и смрад, и Мастер, придавив щипцами, накрыл его металлическим колпачком. Настал день 16 июля 1493-го; инженер, живописец и скульптор, состоящий на миланской службе флорентиец Леонардо да Винчи прожил к этому времени сорок один год и три месяца.
Великие труды вознаградятся голодом и жаждой, тяготами, и ударами, и уколами, и ругательствами, и великими подлостями.
Конюх, отдуваясь, принес из погреба кувшины с вином; кухарка поставила кастрюлю посреди стола и, отерши покрытый испариною лоб и скрестив руки под фартуком, стала поодаль.
Тем временем некоторые присутствовавшие, окончательно не освободившись от сна, вели себя так, как если бы не могли опомниться после какого-нибудь ужасного происшествия, и с выразительными жестами, громкими голосами объясняли свои сновидения. Раздраженный шумом и отсутствием какой бы ни было чинности, Мастер сказал:
– В Тоскане подпорки кроватей делают из тростника и этим обозначают, что здесь снятся пустые сны и пропадает без пользы утреннее время, когда ум свежий и отдохнувший, а тело способно взяться за новые труды.
Тут все умолкли, поскольку аудитория была самая впечатлительная; подумав, Леонардо добавил:
– Сон есть подобие смерти; поэтому можно сказать, что лентяи умирают преждевременно и многократно.
Однако не все так бесчинствовали, чтобы их удерживать: немцы, служившие у Мастера по найму, выполняя слесарные и механические работы, отличались степенностью и, держась прямо и важно, помалкивали. Когда Леонардо с таким остроумием и находчивостью осадил соотечественников, немцы заулыбались довольно злорадно, хотя, может, ни слова не поняли из того, что тот произнес быстрым фальцетом. Поскольку же все они были научены одному ремеслу и другого не знали, то, имея в виду как бы осуществившееся вторично в Милане смешение языков, можно было подумать, что таким образом оправдывается замечательная догадка Данте: этот предположил, что, когда при строительстве Вавилонской башни произошло первое смешение и люди, до тех пор объяснявшиеся на одном языке, перестали понимать друг друга, общий язык удержался только у занимавшихся одним каким-нибудь делом. «И сколько было различных обособленных занятий для замышленного дела, – сказано у Данте в трактате „О народном красноречии“, – на столько языков разделяется с тех пор род человеческий». Живописцы, со своей стороны, эту догадку опровергали: происходя из разных областей Италии, хотя и назывались все итальянцами, они слабо понимали один другого, восполняя такой недостаток усиленной жестикуляцией. Впрочем, их вместе с Мастером только условно можно считать соотечественниками, но скорее тосканцами, ломбардцами или жителями Комо в зависимости от того, кто где родился.
Желая показать разнообразие и численность итальянских наречий, Данте так говорит: «По-иному говорят падуанцы и по-иному пизанцы; даже близкие соседи различаются по речи, например, миланцы и веронцы, римляне и флорентийцы, да и сходные по роду и племени, как, например, неаполитанцы и гаэтанцы, равеннцы и фаэнтинцы; и что еще удивительнее – граждане одного и того же города, как болонцы предместья святого Феликса и болонцы с Большой улицы». То же относится и к Милану, если проживающие близко от Замка вынуждены объясняться с уроженцем квартала Патари, старьевщиков, как с глухонемым или с человеком, имеющим врожденный, препятствующий пониманию недостаток речи, настолько велика разница в произношении.
Будучи наиболее людным перекрестком Европы, Милан представляет собой полигон для исследователя, замечающего беспрерывные повседневные изменения живых языков, которые, как он говорит, меняются из века в век по отдельным странам вследствие смешения народов и придают большую вероятность предположению, что наречия окажутся бесконечно разнообразны в бесконечности веков, входящих в бесконечное время. Что касается разместившихся на полуострове государств, их почти столько, сколько наречий, хотя разделяющие их границы более четкие и определенные, тогда как наречия, соприкасаясь, проникают друг в друга сфумато, рассеянно. Италия к тому времени стала уже забывать, как императоры Священной Римской империи германской нации3 насильно объединяли ее своей властью. Подобные рано развившимся детям, отдельные области, когда добивались самостоятельности, ее достигали, однако же полностью распоряжаться судьбой были в состоянии только наиболее могущественные и богатые, как Милан, а из республик Флоренция или Венеция. Да и то флорентийцы полагали своим сувереном французского короля, а Милан императора и, большею частью действуя самостоятельно, по крайней мере делали вид, что ищут их одобрения.
Для значительного большинства населения флорентиец в Милане является как иностранец, личность отчасти загадочная и странная, и от него можно ожидать неприятностей; трудности взаимного понимания вместе с этим не следует преувеличивать, а недолгая практика, соединившись с необходимостью, полностью их устраняет. С другой стороны, звание иностранца обладает еще и таинственной притягательной силой, которою, если ею умело воспользоваться, можно добиться преимущества перед местными жителями, что, понятное дело, распространяется на все условия существования и деятельности артистов, как Леонардо. Его мастерская разместилась в помещениях ветхого дворца дель Арена, или, как называют миланцы все это сооружение в целом, Старого двора, Корте Веккио, возведенного на развалинах цирка, где во время римского владычества устраивали бои гладиаторов и другие дикие развлечения. Когда в древнем Медиолане появились исповедующие веру в Иисуса, здесь по приговору префекта их отдавали на съедение зверям, которых содержали в подвалах под ареною, откуда через трещины и пазы в каменной кладке доносилось рычание и распространялся запах мочи, не рассеявшийся и при Аццоне, четвертом миланском синьоре из дома Висконти4. Этот ради удовольствия и любопытства приспособил внутри ограды дворца загоны для медведей, тигров и обезьян и еще кого ему удавалось добыть – в особенности Аццоне гордился страусом и другими редкими птицами. Конечно, селившихся в пустых, заброшенных помещениях летучих мышей нельзя – вместе с курами, которых клирики церкви святого Готтарда, бывшей когда-то дворцовою, откармливали на продажу, – отнести к редким птицам, запах внутри Корте Веккио оставался как в древности. Тем более, помимо принадлежавших Мастеру двух лошадей и осла, здесь находились собаки – их он велел кормить и защищал от нападения учеников, как многие молодые люди, отличавшихся бессмысленной жестокостью.