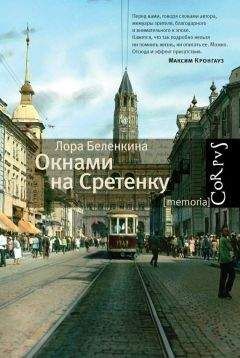Мини-предприниматель торговал каким-то особым мылом, состав которого он сам изобрел и которое сам же изготовлял. В обязанности мамы среди прочего было ходить по парфюмерным магазинам города в виде покупательницы и спрашивать, нет ли у них в продаже этого «замечательного мыла «Лабико». Несмотря на такую рекламу, предприниматель вскоре прогорел и закрыл свою контору. А мама пошла работать счетоводом в крупную электрокомпанию АЭГ. Жизнь у нее стала более веселой, она попала в дружный коллектив бухгалтерии, состоявший из таких же девушек и одного белокурого молодого человека по фамилии Блак. Своими шутливыми замечаниями и розыгрышами он веселил и смешил девушек — они потом всю жизнь вспоминали его и снова смеялись. Мама была на хорошем счету у начальства, и ей вскоре прибавили жалованье. Она купила себе лютню и стала брать уроки игры на ней. Кроме этого, она заинтересовалась политикой и стала посещать митинги и сходки различных партий. Она надеялась, что придет время, и она сама тоже будет кричать что-нибудь с трибуны. Но этому положил конец ее шеф: он вызвал ее и сказал: «Фрейлейн Бютов, мы очень довольны вашей работой, но мой вам совет — руки прочь от политики, она вас до добра не доведет».
Вместе с мамой в отделе работала и Меля Карп, приехавшая из Польши. Она брала маму с собой в оперу и на концерты, а как-то позвала к себе, чтобы познакомить ее со своим женихом Ваней Шустовым. А Ваня привел с собой своего бывшего товарища по лагерю гражданских пленных в Хольцминдене, и таким образом состоялось первое знакомство моих будущих родителей.
Поженившись через четыре года, молодожены поехали на какое-то время в Гюстров, к бабушке. К тому времени бабушка уже не жила в приюте для бедных. Ей дали небольшую квартирку в ветхом голубом двухэтажном доме, построенном каким-то благодетельным герцогом в начале XVIII века для одиноких вдов города Гюстрова. Он стоял на Соборной площади (Domplatz, 7) в тени массивного краснокирпичного собора XIII века и был населен одними старушками. Мне в детстве часто приходилось бывать в этом доме. Парадная дверь вела в большую, вымощенную каменными плитами переднюю, здесь же находился кран с огромной раковиной, где все жильцы брали воду. Кран всегда был начищен до блеска. Слева в углу вела вверх страшно скрипучая деревянная лестница, там стоял свой, особый запах: пахло деревом, немножко плесенью, немножко чем-то тяжелым, сладким — трудно описать его, но он мне был приятен.
Бабушкин дом
У бабушки[1] были комната и кухня на втором этаже, сразу за лестницей. Потолок был очень низкий: мама, подняв руку, упиралась в него. Небольшие окна выходили за дом, где был небольшой сад, дровяной сарай и кирпичная уборная. Одно из окон кухни выходило в сад настоятеля собора, в окно упирались ветви грушевого дерева. Комната была заставлена мебелью — большой овальный стол, диван, вольтеровское кресло, грузный комод с уютно тикающими часами в виде яйца, которое несет в когтях большой черный металлический орел. Два шкафчика, кровать и письменный стол с застекленной полкой. Широкие подоконники были заставлены горшками, и во всех горшках — розы. Бабушка искусно выращивала разные сорта и очень ими гордилась. В кухне, смежной с комнатой, было больше простора: я любила плясать по ее навощенным скрипучим половицам. Там была дровяная плита, но готовили чаще на спиртовках. За дверью стояла кровать, на которой спала бабушка. Еще на кухне была скамья с двумя белыми ведрами, где держали воду. Освещалась бабушкина комната настольной керосиновой лампой с зеленым абажуром, электричества в доме не было.
Бабушке был выделен еще и небольшой сад, один из многих на обнесенном проволочной сеткой участке, — это было за чертой города, но недалеко от дома. Там у бабушки росло несколько вишен, очень много клубники, крыжовник, смородина, ревень и разнообразные цветы. В отличие от мамы, которую никогда не интересовала земля и не тянуло к сельским работам, бабушка находила удовольствие в садоводстве, все у нее всегда хорошо росло, и она получала большие урожаи ягод.
Папа Борис Фаерман (1888 (06.10) — 1941 (29.10))
А теперь я наконец хочу рассказать и о своем отце, старшем сыне семьи Фаерманов, о его жизни до того времени, как я сама его помню.
Как старшему сыну ему выпала участь гораздо более тяжелая, чем другим детям семейства: он рос в то время, когда семья еще очень бедствовала. Об учебе в гимназии не могло быть и речи еще и потому, что по каким-то неписаным еврейским законам старший сын должен был в первую очередь стать помощником в семье. Поэтому дед дождаться не мог, когда наконец Борис уйдет на заработки и станет присылать семье деньги.
Младшие дети[2] очень любили и уважали Борю, а он был мальчик скромный и довольно нелюдимый; в свободное время он рисовал, научился даже писать маслом; по рассказам братьев и сестер, эти картины были очень хороши. Когда девочки задумали устроить театральное выступление, он из тряпок и картона смастерил им великолепные костюмы в стиле исторической эпохи. Вообще у него, несомненно, был талант к художеству, но он скорее стеснялся этого таланта, чем стремился его развивать. То ли сразу после окончания школы, то ли позже он отбыл воинскую повинность и всю жизнь с содроганием вспоминал, как заставляли их, солдат, штыком прокалывать куклу из тряпок и соломы… Потом отец[3] отправил его в Харьков учеником к немцу-аптекарю. В то время младшие дети уже учились в гимназиях и институтах, а папа все работал и слал домой деньги. А по ночам усиленно занимался: сдавал экстерном за курс гимназии и, наверное, откладывал ежемесячно небольшие суммы на поездку учиться за границу Только в марте 1912 года его отец дал согласие на отъезд Бориса на учебу Не знаю, было ли у папы где-то глубоко в душе чувство обиды на своего отца, ведь тот всех детей как бы предпочел ему, старшему, но папа никогда об этом не говорил и, очевидно, принимал все как должное. Но нежно любил мать, а та в свою очередь считала Борю лучшим и самым добрым из своих детей и всегда жалела его.
Итак, в марте 1912 года папа переехал в Берлин и поступил в высшую школу экономики и коммерции. Папа интересовался статистикой, любил и хорошо знал математику, поэтому, видно, и выбрал такой институт. Он снял чердачную комнатушку и все свободное время читал книги по философии и художественную классику. Встречался, конечно, с Ильей[4] — и спешил постичь немецкий язык, ибо на первых лекциях почти ничего не понимал. Когда он был на третьем курсе, началась мировая война, и папу как гражданина враждующей державы заключили в лагерь для гражданских военнопленных в Хольцминдене. В этом лагере встретились мужчины и женщины из Франции, Бельгии, России и других стран, люди из всех слоев общества. (В этом же лагере, между прочим, был среди заключенных и писатель Константин Федин.) Все эти люди жили в бараках, пища была скудная, на работу выгоняли с утра: папа потом рассказывал мне, что там он на всю жизнь возненавидел пруссачество — тупых и безжалостных, как заведенные машины, офицеров с их лающими окриками. И тем не менее этот лагерь был, по-моему, для папы чем-то вроде особого университета. Именно там он выучился английскому, французскому, на которых потом свободно говорил и читал; именно там он познакомился с классической музыкой (там находился дирижер-бельгиец, собравший самодеятельный оркестр), научился хорошо играть в шахматы, а еще узнал цену дружбе и общению с другими людьми (многие из них были широко образованны), равными в тех суровых условиях.