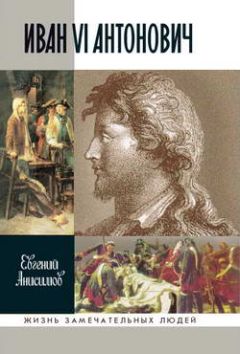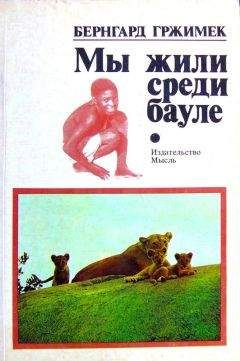Ознакомительная версия.
Мне кажется, что истоки «дворских бурь» – исключительно в сущности самодержавной власти. В самой сердцевине самодержавного режима, как в яйце жизни и смерти Кощея, заключена личностная, часто неуправляемая, «бешеная» и страшная для подданных неправовая сила. Спору нет, на уровне законодательства именно эта сила и была источником правовых норм. Не без оснований И. И. Дитятин писал, что попытки водворения законности в системе управления – черта весьма характерная для русской действительности еще с московских времен. Вместе с тем, пишет Дитятин, если отрешиться от юридической сферы, перейти от памятников законодательства к «памятникам самой жизни», то «у вас не останется и тени сомнения в том, что в этой жизни, на всем протяжении этих четырех веков начало законности в „государевом царственном и земском деле“ вполне отсутствовало».[6] В долгой истории отношений самодержавия с законом образовалась роковая замкнутая цепь. С одной стороны, самодержавие возникло и укрепилось в Московский период русской истории вопреки складывавшейся тогда же системе сословного представительства, за счет уничтожения начал сословности, механизмов и атрибутов института земских учреждений. Прекращение деятельности Земских соборов стало следствием усиления самодержавной власти. Именно тогда, в конце XVII века, самодержавие достигло такого могущества, которое позволило Петру I провести свои реформы, не считаясь с потерями и жертвами во имя достижения имперских целей. В ходе этих реформ Петр последовательно избегал восстановления или создания (на западный манер) институтов сословного или иного группового представительства. Источником закона окончательно стала его самодержавная воля. Слов нет, самодержавие было могущественной силой. Созданная на его фундаменте система властвования отличалась колоссальной прочностью и накрепко связывала под единой властью Москвы, а потом Петербурга гигантскую страну (в современных размерах), но с малочисленным (всего 10–15 миллионов человек) населением.
Допускаю, что, возможно, иного способа, кроме самовластного и недемократического, управлять такой страной и ее населением тогда (как, впрочем, и теперь) не было. Не случайно Василий Татищев, Екатерина II и многие другие русские мыслители ухватились за популярный в просветительской литературе «географический фактор», отводили ему особое место в истории становления и существования России как государства. По их мнению, великим государством на таких просторах Россия могла стать только благодаря мощной централизующей, сплачивающей силе «вольного» самодержавия. Нет сомнений также, что многие люди в XVIII веке понимали издержки самодержавной формы правления (степень гуманности которой определялась в конечном счете «добронравием» государя), но были единодушны в том, что самодержавие для России есть если не безусловное благо, то уж точно – необходимое зло, так же как и то, что прогресс в России достижим не иначе, как исключительно с помощью насилия, принуждения.
С другой стороны, огромная мощь самодержавия, основанная на непререкаемом праве государя править без нормативных ограничений, без определения хотя бы примерного круга компетенции монарха как высшего должностного лица, оборачивалась для русского самодержавия (а вместе с ним и для России) неожиданной стороной, делала его в какие-то моменты беззащитным и слабым. Начиная с 1682 года огромная власть самодержца многократно подвергалась нападкам авантюристов, не раз становилась заложницей стрельцов, гвардейцев и «ночных императоров» – фаворитов. Достаточно было нескольких сотен или даже десятков пьяных солдат, чтобы свергнуть законного государя и возвести на престол нового. Из всех, кто сидел на престоле в XVIII веке, две государыни – Елизавета Петровна и Екатерина II – оказались попросту узурпаторшами – они нарушили все принятые тогда на сей счет юридические нормы, попрали священную присягу, проигнорировали не писанные на бумаге заветы отцов, традиционные «династические счеты». Так, при разных обстоятельствах, в силу вроде бы разных причин, самодержавие, буйно разросшееся за пределами поля закона (на котором худо-бедно, но все же произрастали порядок и законность), оказывалось беззащитным перед незаконными силовыми действиями, становилось подверженным случайностям. Напротив, развитие тех правовых выборных и представительских институтов (земских и иных), которые существовали в России до утверждения самодержавия, могло бы, в принципе, обеспечить русскому царю-императору гарантии неприкосновенности его власти и личности, ибо защита закона и установленных им порядков является институционной обязанностью подобных правовых учреждений. В отсутствии таких учреждений я вижу причины хронической политической неустойчивости в России на протяжении всего XVIII века, да и позже. Это была та высокая цена, которую платило самодержавие за право править без права.[7]
Возвращаясь к историографии темы, скажем о том, что ценной и интересной является и вышедшая в 2000 году книга Л. И. Левина «Российский генералиссимус герцог Антон Ульрих (История „Брауншвейгского семейства“ в России)». Автор поднял в сущности неизвестный до сих пор пласт брауншвейгских источников по теме. Сведения этих источников, наряду с материалами сборника статей и документов «Брауншвейгские князья в России в первой половине XVIII века» (Gottingen, 1993), позволяют уточнить картину происходившего в России в 1740–1741 годах. Меньше находок принесла работа автора в российских архивах. Он шел по борозде, ранее уже «пропаханной» бароном М. А. Корфом – современником Пушкина, автором книги «Брауншвейгское семейство», подготовленной в 1860—1870-х годах. Публикацию этой книги Корфа начали издатели журнала «Старина и новизна», но в 1917 году прекратили по независящим от публикаторов причинам. Полностью текст книги Корфа был издан в 1993 году в Москве. Тогда же значительная часть глав рукописи этой книги была заново опубликована Л. И. Левиным под придуманным «завлекательным» названием: «Холмогорская секретная комиссия: Грустная повесть об ужасной судьбе российского императора и его семьи, написанная Владимиром Стасовым для другого императора и извлеченная с архивной полки для читателя Леонидом Левиным» (Архангельск, 1993). Уже из названия видно, что Л. И. Левин считает истинным автором книги (которую почему-то называет повестью) не Корфа, а знаменитого критика В. В. Стасова, работавшего под началом Корфа – директора Императорской Публичной библиотеки, хотя и не приводит убедительных аргументов в пользу своей гипотезы. Вообще же, вопрос об авторстве этой книги непростой. Безусловно, Корф, как многие другие высокопоставленные историки, активно использовал труд своих подчиненных в качестве собирателей архивного материала и его первоначальных литературных обработчиков. Стасов как раз и был таким «литературным рабом», но при всей значительности его труда по обработке архивного материала он не позволял ему претендовать на авторство или хотя бы соавторство – чего В. В. Стасов, кстати, никогда и не делал. Известно к тому же, что, кроме Корфа, рукопись книги читал и правил сам император Александр II, а Стасов, по приказу своего начальника Корфа, аккуратно покрывал пометы государя лаком. Книга Корфа состоит в значительной степени из больших цитат и выписок из архивных дел Тайной канцелярии, ныне числящихся по разряду 6 (Уголовные дела по государственным преступлениям) Российского государственного архива древних актов (РГАДА), и поэтому не утратила своей ценности.[8]
Ознакомительная версия.