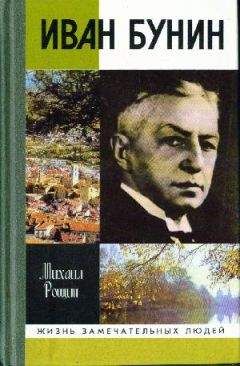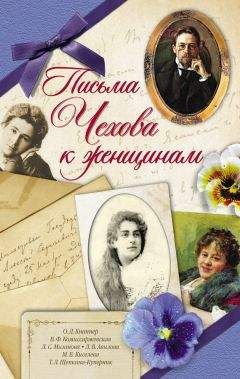Он, в чуйке с поднятым воротником и глубоко надвинутом картузе, с которого текло струями, шибко ехал на беговых дрожках, сидя верхом возле самого щитка, крепко упершись ногами в длинных сапогах в переднюю ось, дергал мокрыми, застывшими руками мокрые, скользкие ременные вожжи, торопя и без того резвую лошадь. Слева от него, возле переднего колеса, крутившегося в целом фонтане жидкой грязи, неровно бежал, длинно высунув язык, коричневый пойнтер…
Ни окрестных полей, ни неба уже давно не было видно за этим потопом, пахнущим огуречной свежестью и фосфором: перед глазами то и дело, точно знамение конца мира, ослепляющим рубиновым огнем извилисто шла сверху вниз по великой стене туч резвая голо-ветвистая молния, и над головой с треском летел шипящий хвост, разрывавшийся вслед за тем необыкновенными по своей сокрушающей силе ударами. Лошадь каждый раз вся дергалась от них вперед, прижимая уши, собака шла уже наскоком… Красильщиков рос и учился в Москве, окончил уже университет, но, когда приезжал летом в свою тульскую усадьбу, похожую на богатую дачу, любил себя чувствовать помещиком-купцом, вышедшим из мужиков, пил лафит и курил из золотого портсигара, а носил смазные сапоги, косоворотку и поддевку, гордился своей русской статью, и теперь, в ливне и грохоте, чувствуя, как у него холодно льет с козырька и носа, полон был энергичного удовольствия деревенской жизни…»
Это «Степа», один из замечательных рассказов «Темных аллей». Между прочим, написан только в 1938 году, — как рассказал сам Бунин, — «на вилле Beausoleil, над Монте-Карло. Представилось однажды, что еду на беговых дрожках от имения своего брата Евгения (на границе Тульской и Орловской губерний) по направлению станции Боборыкино. Проливной дождь. Затем — сумерки, постоялый двор возле шоссе и какой-то человек, остановившийся возле этого постоялого двора и на его крыльце счищающий кнутовищем грязь с высоких сапог. Все остальное сложилось как-то само собой, неожиданно; когда начал рассказ, еще не знал, чем кончу».
Трудно поверить — так все выверено точно дальше. Мысль уже овладела автором, некий желанный, загадочно-необходимый образ представился ему, — не ранее, не позже, а именно в этом 38-м году, на какой-то вилле, при самых, видимо, далеких от излагаемого обстоятельствах. И этот образ, видение требует теперь воплощения, оживления. Художник взял бы краски, скульптор глину или камень, писателю возможно схватить, оконтурить и оживить видение только словами.
Гроза загоняет Красильщикова на знакомый постоялый двор. Хозяина нет, но Красильщиков смело идет в дом, — поднялся на крыльцо, сбросил промокшую чуйку, «вытер пестрое от грязных брызг лицо и — вот оно, это место! — стал счищать кнутовищем грязь с голенищ». В доме находит он одну Степу, дочь хозяина, в свете горящей спички «видно было это смущенно улыбающееся личико, коралловое ожерелье на шейке, маленькие груди под желтеньким ситцевым платьем… Она была чуть не вдвое меньше его ростом и казалась совсем девочкой». Обнаружилось, она давно влюблена в него, рада ему, готова для него на все. Молодой купец, что называется, пользуется моментом. «Через полчаса он вышел из избы, отвел лошадь во двор, поставил ее под навес, снял с нее уздечку, задал ей мокрой накошенной травы из телеги, стоявшей посреди двора, и вернулся, глядя на спокойные звезды в расчистившемся небе… Она лежала на нарах, вся сжавшись, уткнув голову в грудь, горячо наплакавшись от ужаса, восторга и внезапности того, что случилось. Он поцеловал ее мокрую, соленую от слез щеку, лег навзничь и положил ее голову к себе на плечо, правой рукой держа папиросу…»
В 1938 году Ивану Алексеевичу Бунину 68 лет, — так далек он от того молодого купца, в котором наверняка изобразил себя, молодым, легким, напористым, вот эдак лежащим с папироской на отлете рядом с навек вошедшей в сердце неведомой нам, затерянной во временах и пространствах девушкой. Что ж это, так электронно-точна память или вполовину все воображено и придумано?
Бездонна грусть и чистота этого рассказа. Он обещает Степе вернуться, взять замуж, как она просит.
«— Мне на Крещенье уж шестнадцатый пошел, — поспешно сказала она.
— Ну вот, значит, через полгода и венчаться можно…»
И — невероятный финал: «Воротясь домой, он тотчас стал собираться и к вечеру уехал на тройке на железную дорогу. Через два дня он был уже в Кисловодске».
Невероятный, — говорю я, — а что ж невероятного? Очень даже вероятный — в жизни так оно и бывает — но все же «невероятный» по своему художественному, литературному удару — надо придумать такое! — чтобы поразить читателя в самое сердце, — и оттого так глубока правда этого светло-печального и такого юного для 68 лет рассказа!
Впрочем, возраст автора, вся грусть и тайны его, возможно, и помогают ему быть столь свежим, эротически-напряженным, до конца правдивым. Но об этом — еще впереди.
Как все-таки происходит это чудо, тайна? Желание и способность, а затем умение так писать? Вообще писать?.. Жить, чтобы писать?..
И ведь так рано, необыкновенно: существо человеческое едва дышать стало, лепетать первые слова, стоять на ногах, обонять, бояться холода, жара, громкого звука, глаза открыло и уши. Тайна все-таки. В семи-, восьми-, девятилетием ребенке уже звучит поэт. Как? Откуда?..
Русским писателям Бог судьбу лепит почти по одному стереотипу. Родиться положено где-нибудь в среднерусской полосе (там и расти в детстве), в семье дворянской, заметного роду-племени, с корнями, но чаще уже обедневшей, с землями и крестьянами в залоге, но с сохранившейся, как правило, усадьбой, домом, близкими деревнями или хуторами.
Отец достается обычно странный, крутонравный, суровый или чересчур веселый, мот и гуляка, вроде Алексея Николаевича Бунина, мелкопоместного дворянина, успевшего и хозяйство разорить, и наследство спустить и женино приданое. Но не без талантов и обаяния.
Мать, чаще всего, — напротив, существо тихое, женственное, доброе, нежное.
По семейным преданиям нрав десятилетнего Вани Бунина уже являл смешение характеров и отцовского и материнского. Худой, тонкий в кости, узколицый, красивый синеглазый мальчик мог быть отчаянно смел, боек, говорлив и насмешлив, — это отцовское: отец был на войне, волонтером, в Крымской кампании, попивал, погуливал, играл в карты, любил прихвастнуть знакомством с самим графом Толстым, тоже севастопольцем. От начитанной, религиозной, печальной маменьки (из девятерых детей пятеро умерли, хозяйство вечно в упадке) мальчику привились задумчивость, любовь к красоте и природе. Даже в имени матери — Людмила Александровна, — урожденная княгиня Чубарова, Бунину всегда чудилось пушкински-далекое, символическое. Очень любил мать всю жизнь, был ей предан, сколь мог, всегда помогал. Она тоже отличала его среди других детей, чувствовала его необычность.