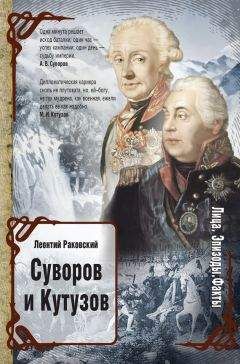– Отец мне и говорит: «Полно тебе, Лешка, баловать, пора умом жить. Я тебе сосватал Федосью». Бухнул я отцу в ноги – смилостивись, тятенька. А он и ухом не ведет. Всю неделю до свадьбы пропьянствовал без просыпу. Обвенчали. На другой день оглянулся я – да поздно. Жена – смирная, работящая, годов на десять меня старше. И бельмо на глазу. А мать у нее вовсе слепая. Парни смеются: у вас, говорят, на троих – всего три глаза. Озверел я. Избил жену и пошел на сеновал. Лежу и слышу – у нас на задворках бабы судачат: «Видала, Лешка-то свою хозяйку окстил! Знать, любит, коли бьет!» Я вскочил да в кабак. А потом повалился отцу в ноги – сдавай в солдаты, не то руки на себя наложу…
Несколькими рядами дальше шел другой разговор:
– Подошву чистым бы дегтем намазать, да золой присыпать, да выставить на солнышко – всю Европу на них прошел бы, а то – вон уже на подвертках иду!
Суворов поравнялся с Апшеронским полком, который шел непосредственно за полками 1-й дивизии. Подымались на гору, ехать быстро было нельзя.
Суворов смотрел на рослых, плечистых мушкатеров 1-й роты. Немного впереди него, крайним в ряду, шел молодой русоволосый солдат. Он то и дело подергивал плечами: видимо, с непривычки сильно резал плечи тяжелый ранец. Сосед рекрута, пожилой рябоватый мушкатер, поглядывал на него, а потом взял у молодого солдата с плеча фузею и негромко сказал:
– Ильюха, поправь ранец!
Рекрут сразу ожил, поднял голову и стал подтягивать ремни. Но в это время откуда-то из рядов раздался начальственный окрик:
– Иванов, зачем балуешь рекрута? Какой из Огнева солдат будет, ежели с фузеей не справится?
Рекрут торопливо потянул из рук старого солдата свою фузею.
– Егор Лукич, пущай парень хоть ремни-то поправит, – ответил рябой солдат.
Но Егор Лукич уже не слышал ответа: увидев, что возле его капральства[7] едет какой-то штабной офицер (у Суворова была повязка на рукаве), капрал продолжал показывать старание – распекал еще кого-то:
– А ты чего захромал?
– Пятку стер, дяденька.
– Обуваться не умеешь, мякина! Придем на место, салом натри – пройдет, – по привычке сказал капрал всегдашнюю в таких случаях фразу.
Рябой солдат усмехнулся и довольно громко заметил:
– Умный какой. Да кабы сало у кого было…
– Давно бы съели, – досказал за него сосед.
Поднялись на гору.
Впереди Суворов увидал знакомую картину. Над морем бесконечных повозок, палуб и телег возвышалась вереница верблюдов, – это шесть верблюдов вместе с двадцатью лошадьми везли багаж генерала Фермора: его роскошные палатки, мебель, кухонную и столовую посуду и многочисленных генеральских слуг.
Суворов покачал головой:
«Нет, с таким табором не нагрянешь внезапно на врага! Восемь верст в сутки, помилуй Бог! Это не армия на походе, а барыня, едущая на богомолье!»
Мы во Пруссии стояли,
Много нужды принимали.
Солдатская песня
Мушкатер Ильюха Огнев, подложив под голову руки, лежал в тени палатки. Высоко вверху, как пушинка по воде, легко плыло белое облачко. Оно плыло в сторону Мельничной горы, к правому флангу, плыло на восток, на родину. Ильюха смотрел на него и с грустью думал все об одном и том же:
«Вот облачко поплыло туда. Может, его увидят скоро и у нас, в Ручьях. Посмотрят на него. Мать, сестренка Любка, черноглазая Катюша…»
Тоскливо сжалось сердце. Захотелось домой, в родную деревню, хотя Ильюхина жизнь и там была несладка – от зари до зари гнуть спину на барщине.
Огнева только нынешней весной сдали в рекруты. Староста невзлюбил дерзкого, непокорного парня, которого бей не бей – он все свое.
«Вот погоди, в царской службе тебе хорошо перья обломают!» – злорадствовал староста, когда Ильюху под истошный плач старухи матери и сестренки увозили из деревни.
В службе Ильюху действительно хорошо обломали. Два месяца гоняли с места на место по разным городам. Зуботычинами да палками учили постигать военную премудрость: как «метать артикулы», как заплетать косу да подвязывать порыжелые, никуда не годные кожаные штиблеты – других в цейхгаузе не было.
Наконец, решив, что достаточно обучили военному делу, отправили Огнева с пополнением к армии, которая уже второй год занимала Восточную Пруссию.
Ильюха был назначен в 3-ю дивизию графа Румянцева, в Апшеронский пехотный полк.
Русская армия в Ильин день заняла город Франкфурт-на-Одере и стала бивуаком на высоких обрывистых холмах правого берега реки. Тут-то Огнев и нагнал свой полк.
Он попал в капральство Егора Лукича, старого, бывалого солдата, ходившего на турка, бравшего с фельдмаршалом Минихом Перекоп.
Егор Лукич любил покричать, но бил солдата меньше, чем другие капралы.
Ильюха Огнев оказался в капральстве Егора Лукича самым молодым: ему всего-навсего шел девятнадцатый год. Остальные подначальные Егора Лукича поседели на службе: кто тянул лямку уже пятнадцать лет, а кто – и все двадцать.
Старики давно свыклись с тяжелым солдатским положением. Большинство из них обзавелось женами и детьми – семьи жили вместе с ними в солдатских слободах или на обывательских квартирах – и родные деревни как-то понемногу выветрились из памяти. Привыкшие к походной жизни, видавшие и Крым, и Польшу, старые солдаты и за тысячу верст от родимого края чувствовали себя как дома.
Огневу же все здесь было непривычное и чужое. Непривычны были эти чистые немецкие мызы, эти ветряки, эти медлительные дородные немецкие девушки. То ли дело подвижная, смешливая ручьевская Катюша!
Огнев никак не мог свыкнуться с мыслью, что он на всю жизнь должен остаться солдатом. Пока Лукич учил его, как ставить палатку или как заряжать фузею («Не спеши! Помни: уронишь патрон аль два раза осечка будет – палок дадут!» – поучал старик), Ильюха забывал о доме. Но стоило Огневу остаться одному, как теперь вот, и опять вспоминались родные Ручьи.
Ильюха лежал и живо представлял, что делается сейчас дома. Помещичье поле… Согнувшись в три погибели, бабы жнут яровые. Мать, проворная маленькая старуха, жнет ловко и быстро. Рядом с ней – пятнадцатилетняя Любка обливается потом, спешит, не хочет отстать от баб. Вдоль полосы едет верхом барский приказчик. Песья душа. Помахивает нагайкой, щурит коричневые злые глаза на согнутые бабьи спины…
– Черт косой! Портупея-то у тебя как? Потуже подтяни! – раздался где-то рядом начальственный окрик.
От Ильюхиных мыслей не осталось и следа. Он с досадой приподнялся и сел. Глянул вокруг.
Из соседней палатки торчали чьи-то босые грязные ноги. В тени, под кустиком, пятидесятилетний мушкатер Зуев латал свои штаны. Штаны были когда-то, как полагается мушкатеру, из красного сукна, а теперь от множества заплат красное рдело на них лишь кое-где. Рядом с ним гренадер чинил башмак.