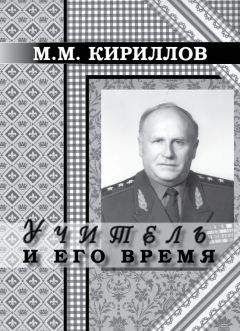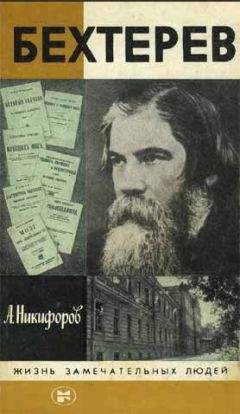Солнце поднимается все выше и заливает город. Инея на деревьях как не бывало. Бегут ручьи, плачут крыши, подтаявший лед грохочет в водостоках. Лед на улицах не окалывается. Машины застряли в колдобинах – ни туда, ни сюда. Из приоткрытых кабин торчат вихры и шапки шоферов. Рев моторов, гудки, ругань.
Центр города. Осевшие сугробы. Гортанный птичий крик, над старым парком. Еще немного – и грязь здесь будет стоять несусветная. Стоков нет, и проезжающие машины будут обливать людей грязью, а люди – пятиться к заборам. А пока пород ходит в слегка подмокшей белоснежной рубахе. Все скрашивает поздний мартовский снег. Говорят, что это нетипично для Астрахани в марте. Может быть, но я думаю, что мне повезло.
День клонится – к вечеру. Косые лучи лижут крыши. Обходя лужи, прошел пару кварталов – от центра. Здесь видно, что город драненький, пролетарский, деревянный. Улица Крупской – насмешка над просвещением и социализмом, настоящие трущобы. Как можно мириться с такой вопиющей бедностью! Вот уж, действительно, на 16 метров ниже уровня… Вспомнились слова Кирова на фронтоне здания в центре города: «Пока в Астрахани останется хоть один коммунист, устье реки Волги было, есть и будет советским». Как здесь нужен Киров сейчас! Астрахань растет, но нужно, чтобы она росла быстрее, чем разрушается.
Темнеет небо. Возвращаюсь в гостиницу. Опешить некуда. Узкие улицы старыми домами выбегают на набережную. Свет окон в магазинчиках. Коопторговское изобилие втридорога. В кулинарии купил полкило сома жареного. Предвкушаю: жир с пальцев бежит – такая вкуснятина! Какая же Астрахань, если рыбки не отведать…
Со времени этого моего посещения Астрахани прошло более 13 лет. Тогда я пытался увидеть город, глазами моего друга. Судя по тому, как он принял мой рассказ, мне это удалось. Но вот уже 2 года как его не стало. И все же я не хочу изменять стиль моих заметок, не хочу, чтобы из них ушла радость, так свойственная всему существу этого человека.
О своем детстве и юности, проведенных в Астрахани, Евгений Владиславович рассказывал мне в разное время и не раз, но урывками и скупо. Родился он здесь 7 октября 1919 года, в семье врача-инфекциониста. Гражданская война в те годы прокатилась по этому краю. Красная Армия держала Царицынский фронт, и Астрахань была оплотом советской власти. В те годы этот волжский край захлестывала инфекция, и старшему Гембицкому приходилось много трудиться. Позже он стал главным врачом городской инфекционной больницы и работал здесь долго, в течение всей Великой Отечественной войны. В городе его хорошо знали и называли с уважением – «старый доктор»…
Судя по некоторым высказываниям и наблюдениям, Евгений Владиславович был очень привязан к своим родителям. Сюда шли его письма с фронта. В 60-е годы он ездил в Астрахань в связи с болезнью своей матери и тяжело перенес ее смерть. В Ленинград из Астрахани уже в очень преклонном возрасте к нему приезжал отец. Бывало, они ездили на Кировский стадион: старый доктор был любителем футбола…
20—30-е годы. Астрахань – глухая южная провинция России, граничащая со Средней Азией и Кавказом, перепутье земли русской. Смешение судеб: волжская вольница, пестрота народа, богатство и рядом – голь перекатная, горы арбузов и рыбные базары, вонь пристаней. В центре – строгий и мощный Кремль – русская твердыня, а вокруг – большая деревня и море лодок. Здесь прошла его школьная юность…
Вспоминая о мальчишеских походах на лодках и плотах в дельте Волги, о рыбалке, Евгений Владиславович улыбался и молодел, и сквозь профессорскую строгость в эти минуты в нем проглядывал здоровый, ладный и озорной паренек.
На второй день своего пребывания в городе я смог, наконец, посетить места, непосредственно связанные с довоенным периодом жизни моего Учителя.
Я все больше убеждался: Астрахань простолюдна, немного балаганна и ненарочито небрежна. Она – какая есть. Прикрасы здесь невозможны и неуместны. Дворянской чопорности и купеческого чванства в ней – нет. И это мне по душе.
На трамвае доехал до Больших Исад. Это – далеко не центр города. Поинтересовался, что означает это название по-русски. Оказалось – Большие Посиделки. Это вызывает уважение. Большие Исады – старый район города и рынок. Прошелся по рынку, крытому, сырому и неуютному. За прилавками кавказский народец. Представил себе: лето, горы арбузов… Сейчас – пустовато. Крытый рынок в Саратове – покупечестее. Вообще, Астрахань – не Саратов: и Волга не та, и гор нет, и беднее намного. Но стариной Астрахань Саратов обошла.
Где-то здесь на 1-й Интернациональной улице (как было сказано) – бывший дом моего учителя. Шлепаю по лужам, оглядываясь на вывески, спрашивая прохожих. Удивительно, но никто не знает, где расположена нужная мне улица. Нечего делать – пошел в музей Кустодиева. И только одеваясь в гардеробе и посетовав гардеробщице о своей неудаче, неожиданно получил точный ответ. «Улица Натальи Качуевской, она в Облвоенкомат упирается. Это и есть бывшая 1-я Интернациональная…». Жалею, что не расспросил её о жителях этого дома, наверняка рассказала бы ветхая старушка о «старом докторе».
Тихая узкая улица с невысокими старыми домами. Летом, видно, зелёная и тенистая. Заканчивается сквером. А вот и дом, который я ищу. Старый, хотя еще крепкий, двухэтажный, с высокими потолками и окнами. Окна вымыты. Деревянные двери. Очевидно, ими не пользуются. Вошел во дворик. Только сделал шаг к крыльцу, как откуда-то с веранды раздались рык и лай собак. Я не стал уточнять, привязаны ли они… Это удивительно, но хоть таким образом, я побывал у единственного моего дома в этом городе.
Опустился вечер. Подмораживает. Прячутся в темноту перекрестки улиц. Торопятся одинокие прохожие. Над темнеющей скатертью Волги – фиолетовое небо. Уходит в дымку лес на противоположном берегу, и где-то в черноте его кроны тревожно мерцают далекие огни газовых факелов. Медленно возвращаются по еле различимой тропке рыбаки с пешнями и рюкзаками. Низко и тяжело летят птицы, гнездясь на середине реки и приготавливаясь к ночи. Застыли в ледовом плену дебаркадеры…
Астрахань – край русской земли. И если человеку суждено с детства видеть Россию, сидя на ее краешке, это что-то добавляет ему. Что-то такое, что делает его на всю жизнь емче, вносит дополнительное жизненное измерение. Какой далью такого человека можно испугать? В его жизни с юных лет всегда и во всем борьба. Или – согласие с заведомой третьеразрядностью с грязными заборами, вонючей рекой и отбыванием жизни.
Ограниченность возможностей роста воспитывает в таком человеке более широкую зону приемлемости жизни и трезвость ума, закаляя внутренний стержень, способность к сопротивлению, восприятие борьбы как естественное состояние, целеустремленность и потребность в мечте – как альтернативу той приземленности, которая здесь в избытке.