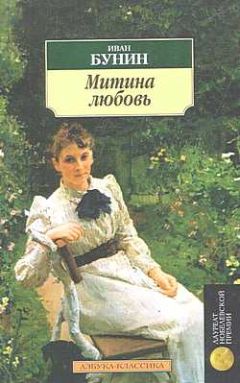новые поколения, вырастающие совершенно в разных условиях в Европе, Азии, Америке, Африке…
До революции опубликованные, к примеру, в московской газете “Русское слово” статья, рассказ или стихотворение сразу становились известны миллионам читателей по всей стране, самые значимые переиздавались в сборниках и спустя годы продолжали читаться, поскольку их по-прежнему можно было купить или найти в библиотеках. Напечатанные в начале 1920-х годов в берлинском “Руле”, пражских “Огнях”, парижском “Общем деле”, гельсингфорсской “Новой русской жизни” статьи и очерки Бунина успевали прочесть те, у кого был доступ к этим газетам, – не миллионы, а лишь тысячи, в лучшем случае десятки тысяч. За пределами страны, где газета выходила, ее читали уже не десятки тысяч – а просто десятки эмигрантов. Через несколько месяцев, тем более через несколько лет, газету вообще уже невозможно достать. Но для Бунина важно, чтобы его слово услышали и те, кто жил в других странах, и те, кто был моложе или оказался в эмиграции позже.
“Ораторских способностей у Бунина не было никаких, – вспоминает Георгий Адамович. – Бунин вовсе не был красноречив. Но когда он бывал «в ударе», был более или менее здоров, когда вокруг были друзья, его юмористические воспоминания, наблюдения, замечания, подражания, шутки, сравнения превращались в подлинный словесный фейерверк. Он был не менее талантлив в устных рассказах, чем в писаниях, – в этом утверждении нет ни малейшего преувеличения. Слушая Бунина, я понял, почему больной хмурый Чехов ходил за ним в Крыму чуть ли не по пятам. Перед Толстым Бунин благоговел и робел, перед Чеховым давал себе волю, и, вероятно, в молодости его разговорный и имитаторский дар был так же удивителен, каким остался до глубокой старости. В беседе с глазу на глаз он держался гораздо более сдержанно. Ему нужна была аудитория, хотя бы самая маленькая, в два-три человека, и тогда он расцветал, тогда бывал неутомим и, казалось, сам наслаждался портретами и карикатурами, которые рисовал” [3]. А каждая новая газетная публикация помогала Бунину расширить аудиторию, достучаться даже до тех, кто придерживался иных взглядов, ведь эмигрантские периодические издания проводили разные идеологические линии.
Бунин начинает вести ожесточенную борьбу с теми, кого считает предателями Родины и русской культуры, с теми, кто пошел на службу к большевикам или просто им “сочувствует”, с “новыми советскими” писателями и с готовыми примириться хоть с чем-то “советским” эмигрантами.
Главной мишенью публицистических выступлений самого значительного писателя русского зарубежья становится самый значительный писатель из числа тех, кто, по мнению Бунина, поддерживал большевиков, – Горький.
Первый публицистический очерк Бунина, напечатанный в парижской газете “Общее дело” 24 сентября 1920 года, так и называется – “О Горьком”. Он построен на цитатах, но, приводя фрагменты из текстов Горького, Бунин не стремится к особой точности. Бунинский пафос – в противостоянии разрушительной, с его точки зрения, агитации Горького в пользу большевиков. Споря с Горьким, он борется прежде всего именно с ними.
К полемике с Горьким Бунин на протяжении нескольких лет затем возвращается постоянно. И уже во второй публикации 1920 года – открытом письме редактору газеты “Times” “Суп из человеческих пальцев” – противостояние двух великих писателей превращается в противостояние двух литератур – русской и советской. В лагере Бунина и заодно с ним – “прочие русские писатели”, в одном ряду с Горьким – “новые «советские» писатели, эти поистине сказочные сверхнегодяи”. А еще рядом с Горьким английская литературная знаменитость – Герберт Уэллс. Это связано с той ролью, которую Уэллс играл осенью 1920 года в ситуации вокруг возможного признания международным сообществом новой власти в России.
Отвечая своим открытым письмом на открытое письмо Горького Уэллсу, Бунин подчеркивает свое право говорить от имени России: “Мне, тоже русскому писателю, и Божией милостью не последнему сыну своей родины, не менее Горького знающему и любящему ее, письмо это все-таки не импонирует и делает некоторую крупную неловкость перед «дорогим Уэллсом»” [4]. Открытое письмо Бунина превращается в обвинительное заключение.
Пока англичанин выступал просто в роли адресата писем Горького, Бунин ограничивался саркастическими выпадами, указывающими, что Уэллса, как и многих других, используют в целях большевистской пропаганды. Однако после того, как Уэллс начинает сам защищать большевиков, Бунин вступает и с ним в прямую полемику. 24 и 25 ноября “Общее дело” публикует большую статью Бунина “Несколько слов английскому писателю”.
Поездка Уэллса в Советскую Россию по приглашению Л.Б. Каменева привлекла внимание многих европейцев, которые получили возможность узнать о жизни страны не из информационных сводок, полемических статей и газетных передовиц, не из выступлений политиков, а из уст одного из самых авторитетных писателей в мире. Эмигранты же были убеждены, что Уэллс увидит лишь то, что ему захотят продемонстрировать.
Уэллс прибыл в Россию в конце сентября 1920 года. В Петрограде он жил в квартире Горького, город ему показывали Корней Чуковский в качестве гида и Мария Будберг как переводчица. С 4 по 6 октября Уэллс находился в Москве, где встречался с Лениным. А 31 октября английская газета “Sunday Express” начала публиковать серию статей о поездке. У большей части русских эмигрантов возмущение вызвала позиция Уэллса, считавшего, что в увиденной им разрухе виноват не коммунизм, а европейский империализм, и что единственно возможное в настоящее время в России правительство – правительство советское, которое выдвигает объединяющую идею.
По мнению Бунина, Уэллс выступает в статьях о России как турист из “цивилизованного” государства, приехавший в страну дикарей и изучающий ее с точки зрения путешественника, которого интересуют диковинные поступки и обычаи, даже если это обычаи людоедские. Стремящийся предстать в своих заметках “мудрым и всезнающим”, Уэллс с “бессердечной элегичностью” тона повествует об увиденном в Советской России, не чувствуя и не пытаясь почувствовать того, что испытывают “узники той людоедской темницы”, куда “непонятно легко для этих узников прогулялся он, «свободный, независимый» гражданин мира”.
Свои чувства Бунин описывает совсем иначе нежели когда говорит о Горьком. Услышанное возмущает его, “писателя русского, до глубины души”, но в первую очередь Бунину “стыдно” за Уэллса. Эта реакция подчеркивает не только сарказм определений “мудрый и всезнающий”, но и подтекст вынесенной в название формулы “английский писатель”. Английскому писателю-туристу, выступающему в роли стороннего наблюдателя, противопоставляется писатель русский, душа которого болит за происходящее в родной стране.
Казалось бы, статья Бунина об Уэллсе композиционно выглядит привычным для его публицистики образом: он использует цитаты, выделяет курсивом то, что задело его больше всего. И все же полемика с Уэллсом ведется не так, как с Горьким.
Бунин и Горький – оба писали о своей стране, своем народе,