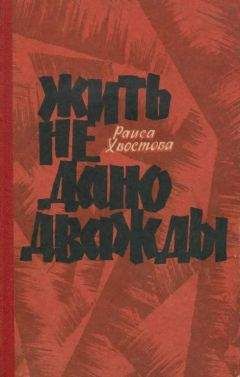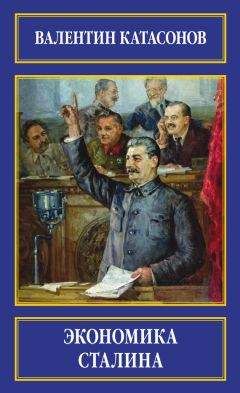На следующий день я приступила к работе в отделе, а в обеденный перерыв встретила в коридоре вчерашнего нового знакомого и двух инструкторов, с которыми Суворов меня познакомил чуть раньше. Эта тройка взяла надо мной как бы шефство. Работали они в другой комнате, но, отправляясь обедать, никогда не забывали зайти за мной. Единственная женщина в компании, кокетничала я напропалую. Закатывалась хохотом от любой остроты или шутки, на которые особенно был горазд Саша Головин. Парируя его необидные колкости, я воображала, что делаю это не менее остроумно. Иван Васильевич не позволял себе смеяться громко ― лишь иногда по его губам пробегала улыбка; временами ловила на себе серьезный взгляд больших голубых глаз (очки он носил в это время редко), мне делалось неловко, и начинало казаться, что веду я себя неправильно и что он осуждает меня за развязность.
В то время я часто ходила на почту — посылала деньги Алеше Мусатову и детям, жившим на Урале. И однажды встретила там Ивана Васильевича. Я уже знала, что его родители живут с ним, в Москве.
― И кому же вы посылаете деньги? ― полюбопытствовала я.
― Жене и сыну, они в эвакуации.
Увидев мое удивление, он рассмеялся:
― Я женат двенадцать лет, и у меня могло бы быть три сына. Двое умерли.
― Простите... Сколько же вам лет?
― Тридцать два.
― От силы давала двадцать три.
Он опять засмеялся.
― Это было бы замечательно... К сожалению, молодость прошла.
Я пошутила:
― А я рада! Значит, вам можно поухаживать за такой старушкой, как я. А то сидите таким букой в нашей компании.
― С Головиным не хочу соревноваться, ― вдруг с какой то явной обидой в голосе сказал он.
Я смутилась, замолчала, и так, молча, мы добрели до здания ЦК.
С той поры на выходе из столовой или кинозала он с подчеркнутой учтивостью принимал из рук гардеробщика мое пальто и помогал одеться. Это, как ни странно, меня трогало, а у Головина вызывало смех. Что за китайские церемонии? Но Иван Васильевич был невозмутим и продолжал оказывать мне знаки внимания. Вдруг мне стало не хватать его общества, а присутствие других просто раздражало. Видно, и его тоже. Мы стали обедать вдвоем, а в оставшееся от перерыва время прогуливались по набережной Москвы-реки и вдоль стен Кремля.
Мы много говорили, вернее, говорила я, а он слушал, и так внимательно, что говорить хотелось бесконечно. А историй у меня хватало...
Я родилась под Москвой ― в Бирюлево, под грохот проходящих поездов, лязг вагонных буферов на «горке» и скрежет тормозных «башмаков». В 1905 г. мой отец Нечепуренко Харитон Филиппович приехал на эту сортировочную станцию, скрываясь от полиции Старо-Оскольского уезда, где был помощником волостного писаря, а в свободное от работы время строчил для крестьян жалобы на местное начальство губернатору и царю. Земляки пристроили его на должность конторщика станции. Затем он стал кассиром-таксировщиком, билетным кассиром, а потом уже дежурным платформы «Герасимовская[1]».
Мои братья Алеша, Сима, Петя и маленький Коля росли и учились в деревне Мышинка у бабушки, под Старым Осколом; меня же, единственную девочку в семье, моя мама Феодора Кронидовна предпочитала «держать под боком».
Дрова в печи прогорели, мама торопилась поскорее посадить в нее хлеб и, тяжело дыша, месила тесто. Вдруг я услышала крик и в ужасе оглянулась. Мама схватилась за живот.
― Беги за Петром Петровичем! ― выдохнула она.
В коридоре я с разбегу налетела на соседку.
Фельдшер жил в нашем железнодорожном доме, только вход к нему ― с другого крыльца. Он спокойно выслушал мой испуганный лепет, вымыл руки и пошел со мной.
Постель родителей стояла за перегородкой ― оттуда доносился слабый детский плач. Соседка крикнула;
― Таз с водой!
Петр Петрович не спеша наполнил таз и, нечаянно выплескивая воду, отправился за перегородку. Я нырнула следом, меня прогнали, но все же мельком увидела красное скользкое тельце.
― Молодец! ― похвалил Петр Петрович соседку. ― Хорошо справилась!
И вскоре ушел.
Мама долго не могла выбрать имя: одно ― носил мальчик-сосед, бывший, по ее мнению, хулиганом; второе ― принадлежало известному воришке; третье было неблагозвучным. Остановилась на Викторе. К тому же ей хотелось, чтобы «крестной» новорожденного была записана ее сестра, моя тетка Рая, но та учительствовала в деревне и приехать, конечно, не могла. Мальчика несла в церковь соседка, принявшая роды. Отец Александр отругал кумовьев за опоздание и сильно рассердился, узнав, что настоящая крестная отсутствует; с испугу соседка сначала забыла, как зовут крестную, а потом забыла выбранное мамой имя. Священник опустил крошку в купель и сказал:
― Нарекаю Александром!
Это имя было у него самое популярное. Так звали его самого, так звали начальника станции, а из двух престолов ― один был Александра Невского.
Когда маме сказали, что младенца нарекли Александром, она всплеснула руками и воскликнула: «Неужели будет, как Шурка Ястребов?!» Это был в нашем поселке самый хулиганистый парень.
Училась я в соседнем селе. Наша школа-девятилетка ― роскошный двухэтажный особняк с балконами и огромной террасой, «подаренный» советской власти миллионером Бахрушиным, ― размещалась в вековом парке на берегу залива Царицынских прудов. В моде было самоуправление школьников ― учителя власть не показывали, руководили тактично и незаметно[2].
Я была довольно невзрачной девчонкой, хотя слыла «острой на язычок», умевшей поддержать беседу и весьма начитанной по сравнению со сверстницами. Никогда не держала в руках словарей, но удивительным образом могла объяснить почти любое иностранное слово. И очень удивилась, узнав, что такие словари существуют. Подружка, Ира Анискина. предупредила меня, что кое-кто решил устроить мне «проверку». Я разозлилась ― ах так!
И вот однажды в перемену одноклассники окружили меня, у одной девочки в руках словарь.
― Что такое догмат?
― Собачий ход, ― без промедления ответила я.
― А что такое циник?
― Человек, который делает цинковую посуду.
Проверяющие засмеялись.
― А что значит, «он цинично рассмеялся?»
― Значит, что его смех был похож на звон жестяной посуды!
В эту минуту вошла в класс Екатерина Васильевна, преподавательница литературы.