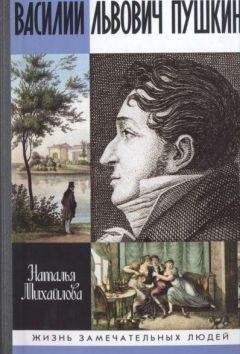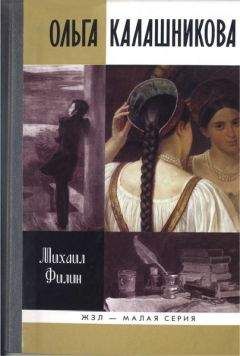«В старых домах наших многочисленность прислуги и дворовых людей, — писал, к примеру, князь П. А. Вяземский, — была не одним последствием тщеславного барства: тут было также и семейное начало. Наши отцы держали в доме своём, кормили и одевали старых слуг, которые служили отцам их, и вместе с тем пригревали и воспитывали детей этой прислуги. Вот корень и начало этой толпы более домочадцев, чем челядинцев»[6].
К таковым «домочадцам» принадлежали и дядьки барчуков, и конечно же няни и кормилицы-мамушки дворянских детей. «Нянька, которая вынянчила самого старого барина или барыню, или старинная наперсница девичьих шашней, не только сама пользовалась привилегией почти равенства с господами, но и всё её родство сближалось с молодым поколением господ», — утверждал В. В. Селиванов[7]. Да и в воспоминаниях Г. И. Филипсона фигурирует аналогичная крепостная. «Нянька моя была женщина очень неглупая, но, прежде всего, добрая и любящая, честная и совершенно бескорыстная, — отмечал автор. — Она ходила за мной шесть лет, а потом нянчила ещё брата и четырёх сестёр. Кротость и терпенье её были невероятны <…>. Впоследствии она сделалась почти членом нашего семейства. Мать дала ей отпускную, но она и не думала оставлять нас…»[8]
Отмена крепостного права 19 февраля 1861 года фактически ликвидировала и старый, в каком-то смысле добрый патриархальный быт. Корпорация «столбовых крепостных», «рыцарей без страха и упрёка, исполненных преданности к господам до самозабвения», довольно быстро сошла со сцены, тихо исчезла. На смену упокоившимся на «смиренных кладбищах» слугам-домочадцам почти повсеместно пришли юридически свободные, обычно охочие до барыша «новые слуги», уже не имевшие никаких понятий о «семейном начале»[9]. Но единичные «милейшие существа, которых нельзя не любить», обретя полный соблазнов статус наёмных работников, хранили и сохранили-таки верность этическим преданьям дворянской старины.
Трогательные, в прабабушкиных чепцах, тени минувшего изредка появлялись и приживались в российских семьях (а в итоге роднились с ними) даже после всесокрушающей революции. «Эти няни в отношении текущей жизни всегда выглядели как люди, заблудившиеся во времени», — отметил, к примеру, в 1953 году оказавшийся в эмиграции публицист H. Н. Былов. И следом он, давнишний обитатель Буэнос-Айреса, добавил очень существенное: «Я, лично, видел одну такую няню»[10].
Немало подобных нянь запечатлено и в художественной литературе. Можно с ходу припомнить, допустим, добрую «мамку» из карамзинской «Натальи, боярской дочери» (1792) или не менее характерную «любимую няню» из повести A. A. Бестужева (Марлинского) «Роман и Ольга» (1823).
Ещё более популярна Наталья Савишна — «редкое, чудесное создание», персонаж повести Л. Н. Толстого «Детство», впервые напечатанной в «Современнике» в 1852 году (под названием «История моего детства»): «Она не только никогда не говорила, но и не думала, кажется, о себе: вся жизнь её была любовь и самопожертвование. Я так привык к её бескорыстной, нежной любви к нам, что и не воображал, чтобы это могло быть иначе, нисколько не был благодарен ей и никогда не задавал себе вопросов: а что, счастлива ли она? довольна ли?»
Весьма, кстати, показательно отношение этой «старушки» к пресловутой крепостной зависимости: «Когда maman вышла замуж, желая чем-нибудь отблагодарить Наталью Савишну за её двадцатилетние труды и привязанность, она позвала её к себе и, выразив в самых лестных словах всю свою к ней признательность и любовь, вручила ей лист гербовой бумаги, на котором была написана вольная Наталье Савишне, и сказала, что, несмотря на то, будет ли она или нет продолжать служить в нашем доме, она всегда будет получать ежегодную пенсию в триста рублей. Наталья Савишна молча выслушала всё это, потом, взяв в руки документ, злобно взглянула на него, пробормотала что-то сквозь зубы и выбежала из комнаты, хлопнув дверью. Не понимая причины такого странного поступка, maman немного погодя вошла в комнату Натальи Савишны. Она сидела с заплаканными глазами на сундуке, перебирая пальцами носовой платок, и пристально смотрела на валявшиеся на полу перед ней клочки изорванной вольной.
— Что с вами, голубушка Наталья Савишна? — спросила maman, взяв её за руку.
— Ничего, матушка, — отвечала она, — должно быть, я вам чем-нибудь противна, что вы меня со двора гоните… Что ж, я пойду.
Она вырвала свою руку и, едва удерживаясь от слёз, хотела уйти из комнаты. Maman удержала её, обняла, и они обе расплакались».
Незабываема и Агафья Власьевна, няня Лизы Калитиной из тургеневского «Дворянского гнезда» (1859): «Странно было видеть их вдвоём. Бывало, Агафья, вся в чёрном, с тёмным платком на голове, с похудевшим, как воск прозрачным, но всё ещё прекрасным и выразительным лицом, сидит прямо и вяжет чулок; у ног её, на маленьком креслице, сидит Лиза и тоже трудится над какой-нибудь работой или, важно поднявши светлые глазки, слушает, что рассказывает ей Агафья; а Агафья рассказывает ей не сказки: мерным и ровным голосом рассказывает она житие Пречистой Девы, житие отшельников, угодников Божиих, святых мучениц; говорит она Лизе, как жили святые в пустынях, как спасались, голод терпели и нужду, — и царей не боялись, Христа исповедовали; как им птицы небесные корм носили и звери их слушались; как на тех местах, где кровь их падала, цветы вырастали. <…> Года три с небольшим ходила Агафья за Лизой; девица Моро её сменила; но легкомысленная француженка <…> не могла вытеснить из сердца Лизы её любимую няню: посеянные семена пустили слишком глубокие корни. Притом Агафья, хоть и перестала ходить за Лизой, оставалась в доме и часто видалась с своей воспитанницей, которая ей верила по-прежнему».
Повторим и подчеркнём: упомянутые (и неупомянутые) няни и мамушки, как реальные, так и литературные, только формально, в ревизских сказках и прочих делопроизводственных документах, числились дворовыми людьми. В обиходе же такие женщины имели иной статус и существовали в ином, вне- и надсословном, пространстве — в пространстве дворянского дома, христианской семьи. И в пределах данной заповедной («понятийной») иерархии они сплошь и рядом трактовались владельцами не как банальные крепостные души, но как домашние, от века близкие люди — словом, как натуральная, почти кровная родня. Да и мамушки считали господский дом своим родным домом, а радости и неурядицы хозяев и хозяйских отпрысков переживались ими как собственные душевные волнения.