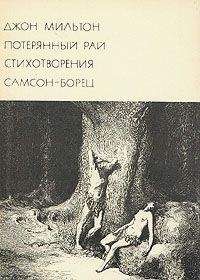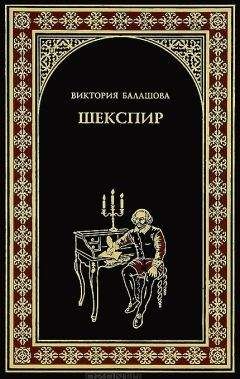Мильтон не сразу стал поэтом, сосредоточившимся на библейской тематике и сюжетах. Он начинал как поэт светский, но исторические условия сделали неизбежным его обращение к религии. Прогрессивное антифеодальное и антимонархическое движение в Англии XVII века развивалось под религиозными лозунгами. Идеологией воинствующей буржуазной демократии стало пуританство (английская ветвь кальвинизма). Пуритане возглавили политическую борьбу против монархии и дворянства. Мильтон примкнул к ним и стал одним из главных идеологов буржуазной революции.
Как же случилось, что буржуазная революция в Англии получила религиозное идеологическое облачение? На этот вопрос дал ответ К. Маркс, который писал: «…как ни мало героично буржуазное общество, для его появления на свет понадобились героизм, самопожертвование, террор, гражданская война и битвы народов».[3] Борцы за новый социальный строй должны были найти «идеалы и художественные формы, иллюзии, необходимые, чтобы скрыть от самих себя буржуазно-ограниченное содержание своей борьбы, удержать свое воодушевление на высоте великой исторической трагедии. Кромвель и английский народ воспользовались для своей буржуазной революции языком, страстями и иллюзиями, заимствованными из Ветхого завета».[4] Вполне естественно, что и Мильтон проникся этим духом. Шедевры его поэзии окрашены библейским колоритом. Из Ветхого завета заимствованы сюжеты «Потерянного Рая» и «Самсона-борца», из Нового завета (Евангелия) — основа «Возвращенного Рая».
Это надолго обусловило то, что его стали воспринимать как религиозного поэта. На протяжение всего XVIII века «Потерянный Рай» считался благочестивым чтением. В начало XIX века узкое понимание Мильтона подвергли пересмотру. Революционный поэт-романтик Шелли увидел в «Потерянном Рае» его мятежный дух. Пушкин в статье «О Мильтоне и Шатобриановом переводе „Потерянного Рая“» (1837) писал о нем как о поэте-революционере. В. Белинский определил «Потерянный Рай» как «апофеозу восстания против авторитета».[5]
Постепенно критика научилась постигать общественный и философский смысл, скрытый под библейской оболочкой произведений Мильтона. Творчество его теперь всесторонне и досконально изучено, что, конечно, не исключает расхождения во мнениях между исследователями.
Вплоть до конца первой мировой войны положение Мильтона как одного из корифеев английской литературы было незыблемым. Но в двадцатые годы представители модернистской поэзии Эзра Паунд и Т.-С. Элиот выступили с нападками на Мильтона, человека и поэта, заявив, что своим стилем он испортил язык английской поэзии. Подверглись осуждению личность Мильтона, его убеждения, революционная деятельность. Но у него нашлись и защитники. Впрочем, защита иногда принимала странный характер: революционера превращали в сторонника порядка, самостоятельного мыслителя — в представителя пуританской ортодоксии, каковым Мильтон не был. Полемика вокруг Мильтона, естественно, не могла не коснуться главных для его творчества вопросов, и здесь обнаружилось много противоречивых мнений. Недавнее двухсотлетие со дня смерти поэта показало, однако, что, при всем несходстве мнений о нем, его величие и значение как одного из первых поэтов Англии остается бесспорным.
«С самой юности я посвящал себя занятиям литературой, и мой дух всегда был сильнее тела; я не предавался воинским занятиям, в которых любой рядовой человек принесет больше пользы, чем я, но отдался таким делам, где мои старания могли быть более плодотворными»,[6] так писал о себе Мильтон, когда ему исполнилось 46 лет (он родился в Лондоне 9 декабря 1608 г.). И действительно, с очень раннего возраста он жил в круге интеллектуальных и художественных интересов. Его отец, состоятельный нотариус, человек больших знаний и разносторонних интересов, тонкий музыкант, сделал все возможное для духовного развития будущего поэта. Он избавил его от материальных забот, и Мильтону было уже за тридцать лет, когда он впервые стал зарабатывать средства к жизни.
Молодой Мильтон заслуживал отцовских забот. Он прилежно учился дома и в школе. «Жажда знаний была во мне столь велика, — рассказывал он о себе, что, начиная с двенадцатилетнего возраста, я редко когда кончал занятия и шел спать раньше полуночи». Домашние занятия перемежались посещением лучшей лондонской школы того времени при соборе святого Павла. В шестнадцать лет обычный тогда для этого возраст — Мильтон стал студентом Кембриджского университета. Через четыре года он уже бакалавр, а еще три года спустя магистр искусств. Он мог бы остаться при университете, но для этого надо было вступить в духовное звание, а этого Мильтону не хотелось при всей ого искренней религиозности.
С формальным образованием было покончено, но Мильтон продолжал учиться. Он поселился в небольшом поместье отца в Хортоне, куда скрылся не только из желания предаться наукам. Распущенность двора, произвол знати, узколобый практицизм буржуа-накопителей были равно отвратительны молодому Мильтону. Он рано проникся духом пуританства, но остался чужд и догматизму и фанатизму его наиболее рьяных поборников. Он прятался от житейской скверны и суеты в провинциальной глуши, но его жизнь была наполнена интеллектуальными интересами, которые связывали его с узким кругом образованных людей, встреченных им там.
Отец всегда поддерживал литературные стремления Мильтона. Первые стихи Мильтон написал в пятнадцать лет. В Хортоне он создал поэмы «L'Allegro»[7] и «Il Penseroso»,[8] пьесы-маски «Аркадия» и «Комос», элегию «Люсидас». Ему в то время уже тридцать лет, написанное им известно лишь узкому кругу, но в голове Мильтона теснятся новые творческие планы, и он пишет другу: «Ты спрашиваешь, о чем я помышляю? С помощью небес, о бессмертной славе. Но что же я делаю?.. Я отращиваю крылья и готовлюсь воспарить, но мой Пегас еще недостаточно оперился, чтобы подняться в воздушные сферы».
В 1638–1639 годы Мильтон совершил путешествие в Италию. Через Париж и Ниццу он достиг обетованной земли гуманистов и посетил там Геную, Легорн, Пизу, Флоренцию, Сиену, Рим, Неаполь, Лукку, Болонью, Феррару, Венецию, Верону, Милан. Он еще заехал в Женеву, на родину Кальвина, а оттуда через Францию вернулся домой.
Итальянский язык он изучил еще в юности, и ему легко было общаться с образованными итальянцами, тепло принимавшими его. Самой знаменательной была встреча Мильтона с Галилеем.
Прошло то время, когда Италия служила для остальной Европы примером наибольшей интеллектуальной свободы. Мильтон приехал в другую Италию, пережившую контрреформацию и католическую реакцию против всякого вольнодумства. Общаясь с представителями итальянской интеллигенции, он смог убедиться в том, как тяжек был политический и духовный гнет в стране, где господствовала инквизиция, искоренявшая всякую крамолу. Итальянцы, рассказывал впоследствии Мильтон, «жаловались на рабство, в котором находится у них наука; и это погасило славу умов Италии: вот уже много лет там не пишут ничего, кроме книг, исполненных лести и пошлости. Там я отыскал и посетил постаревшего прославленного Галилея, заточенного инквизицией только за то, что он думал об астрономии иначе, чем францисканские и доминиканские цензоры».[9]