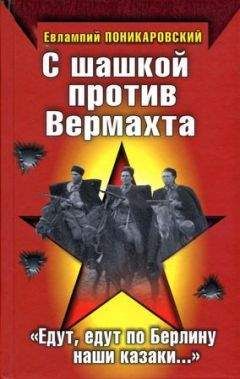Сорок восемь однополчан прислали мне свои воспоминания. Я глубоко признателен и благодарен всем товарищам. В первую очередь — командиру дивизии, затем командиру корпуса гвардии генерал-лейтенанту в отставке С. И. Горшкову, заместителю командира полка по политчасти гвардии майору А. Я. Ковальчуку, отсекру партийного бюро полка гвардий капитану В. Я. Быкову, начальнику штаба полка гвардии майору Д. С. Петренко, одному из первых командиров полка гвардии майору Е. В. Данилевичу, моим батарейцам, командирам взводов гвардии лейтенанту А. И. Мостовому, гвардии младшему лейтенанту А. Е. Рыбалкину, гвардии старшему сержанту Н. П. Комарову, сержантам и казакам батареи А. Ф. Руденко, В. М. Шабельникову, С. А. Музыченко, Л. А. Полякову, A. B. Куликову, П. А. Мазурик и многим другим.
Глава первая
Две фронтовые недели
27 июля 1942 года на станицу Лабинскую Краснодарского края немцы сделали массированный воздушный налет. Школа, в которой размещался наш эвакогоспиталь, вздрагивала и качалась. С треском и звоном вылетали оконные рамы и сыпалось стекло. Известь и мелкая красная пыль наполняли палаты — не продохнешь. Все ходячие прятались в щелях, вырытых возле здания. Лежачие, тяжелые, оставались в палатах и со страхом ждали своей участи. На войне, пожалуй, нет ничего более страшного, чем оказаться перед врагом бессильным и беспомощным. Прямых попаданий в школу-госпиталь, к счастью, не было. Но большое здание в станице слишком приметно, и было ясно, что фашистские летчики не оставят его в покое.
28 июля с утра госпиталь начал свертываться. Нас погрузили в машины и повезли в город Минеральные Воды. Подальше от фронта, подальше от беды.
В пути, под станцией Ярославской, нашу автоколонну воздушные гитлеровские разбойники бомбят и обстреливают. Чувство такое, что за нами, за госпиталем, они специально охотятся.
Я ходячий, в выздоравливающей команде. Решаю выписаться из госпиталя и пристать к какой-нибудь воинской части. Если госпитальное начальство будет возражать, то сбегу. А почему оно должно возражать, рассуждаю сам с собой, баба с воза — кобыле легче. Рана моя затянулась, хотя боль в левой ноге все еще сильная. Но ходить, пусть с палкой-подпоркой, я могу. Могу держать оружие в руках и могу сражаться.
Но начальство решительно воспротивилось. И тогда я, пользуясь суматохой после бомбежки, тихонько сматываюсь. В станицу Ярославскую. Через станицу как раз проходит какая-то часть. Разыскиваю штаб и узнаю: 25-й казачий кавалерийский полк 15-й Донской казачьей кавалерийской дивизии.
Первая встреча в штабе — с комиссаром полка, батальонным комиссаром Михаилом Федоровичем Ниделевичем. Он смотрит мой партийный билет и командирское удостоверение.
— Справки о выписке из госпиталя нет? — резко спрашивает комиссар.
— Нет.
— Сбежал?
— Сбежал.
Ниделевич строго смотрит мне в глаза, потом, хлестнув плеткой по голенищу сапога, бросает:
— Стало быть, так… Сойдет!
И дает распоряжение штабникам о зачислении меня в полк.
Меня беспокоит мысль: в кавалерии придется воевать, а я ведь даже не знаю, с какой стороны подходить к лошади. Но выбора у меня уже нет: госпитальная колонна ушла, и мои «мосты сожжены».
На первом большом привале, перед станцией Ладожской, меня вызывает к себе начальник штаба полка капитан Поддубный. Он среднего роста, чисто выбритый, с вьющимся светлым чубом, выпущенным из-под кокетливо сдвинутой на правый висок фуражки. Лицо открытое, красивое. Одет в чистую гимнастерку со свежим подворотничком. Тонкая талия туго перетянута ремнем. Хромовые сапоги со шпорами начищены до блеска. Франт, да и только! Я несколько удивлен: как в многодневном походе можно сохранять такой щегольской вид?
Разговор со мной начальник штаба начинает неторопливо и ведет его, словно со старым другом. Это сразу настраивает на непринужденность, откровенность и доверительность. Рассказываю, где родился-крестился, где, в какой части и сколько времени воевал, когда и при каких обстоятельствах был ранен. Склонив чуть голову, капитан слушает, изредка кивает, встряхивая вьющимся чубом. Узнав, что я был штабным работником и знаком с делопроизводством, предлагает занять должность помощника начальника штаба полка по шифровальной службе.
— Понимаешь, тебя к нам сам бог послал, — улыбается капитан.
— Ну, если бог, — принимаю шутку начальника штаба, — то как не согласиться. Тем более, дело знакомое.
— А на коне умеешь ездить? — все с той же улыбкой спрашивает капитан, сам внимательно и не без лукавства смотрит мне в глаза.
— Приходилось в детстве, — неопределенно отвечаю я, а сам думаю: «Приходилось-то приходилось, а вот в седле ни разу не сидел. В нашей деревне Печенкино, что на Кировщине, крестьяне коней имели, а седел совсем не знали. Наверное, необходимости в них не было. Ну да ладно, научусь как-нибудь».
— Быть тебе казаком, — почему-то смеется капитан и тут же одному из штабных командиров приказывает подыскать мне коня с седлом и подобрать расторопного ординарца.
До того как попасть в кавалерийский казачий полк, воевать мне пришлось на Крымском фронте, и очень недолго — всего две недели. Но за эти фронтовые две недели я узнал всю тяжесть войны.
Наш 151-й укрепрайон (УР) формировался и готовился к боям в небольшом уральском городке. Я, тогда лейтенант, был назначен на должность начальника штаба 343-го ОПАБ (отдельного пулеметно-артиллерийского батальона). Стояли лютые морозы первой военной зимы. Бушевали вьюги. Городок не мог, не в силах был предоставить УРу каких-либо помещений — он под завязку был забит эвакуированными. Место нам отвели в пригородном лесу. Обживая его, мы строили шалаши, ставили палатки, копали землянки. И усиленно, днем и ночью, учились воевать.
Наш УР формировался из уральцев и сибиряков.
Уральцы и сибиряки! Уже только одно это как бы олицетворяет человеческую твердость, закалку, выносливость, мужество. Но было еще одно замечательное качество у наших воинов: высокая сознательность, беззаветная преданность партии, Родине, народу. Восемьдесят процентов личного состава батальонов составляли коммунисты и комсомольцы.
2 апреля 1942 года всем УРом мы погрузились в вагоны и двинулись на запад. В пути мы гадали об одном: куда нас кинут, на какое направление, на какой участок? Огромный фронт гремел от Баренцева до Черного моря.
Кинули нас на юг. В двадцатых-числах апреля мы были в Тамани, на берегу Керченского пролива. Память подсказывала: «Тамань — самый скверный городишко из всех приморских городов России». Но мы «скверного городишка» не увидели. Ночью приехали, ночью разгрузились, ночью зарылись в землю на берегу.