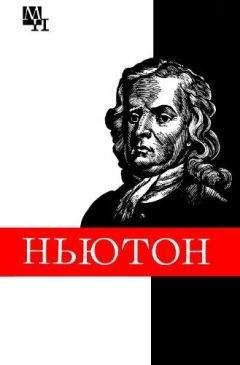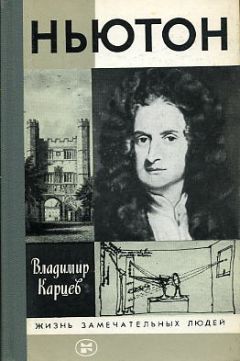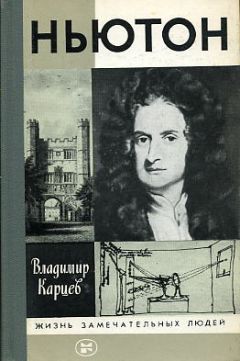И конечно, неклассическая наука усиливает восприимчивость человечества к свету и теплу, излучаемым прошлым. Вспыхнувший в 20-х годах общий интерес к личности Эйнштейна и к теории относительности был вызван интуитивной догадкой о том, что радикальные изменения в науке таят в себе возможность радикального воздействия на судьбы людей. Сейчас во много раз возросший интерес к науке основан уже не на интуиции, а на очевидности. Он направлен не только на науку XX в., но и на ее исторические истоки и на движущие силы истории науки в целом.
овременная ретроспекция открывает в творчестве Ньютона этап — один из самых решающих этапов — эволюции человеческой мысли. Чем глубже выявляется неповторимость Ньютона, тем отчетливее мы начинаем представлять себе связь Ньютона с основными направлениями философии XVII—XVIII вв. и, более того, роль классической физики в общей не только духовной, но и материальной истории человечества. Отсюда следует, что современная книга о Ньютоне должна адресоваться не только физикам, механикам и математикам, но и гораздо более широким кругам читателей[2].
Широкий, далеко выходящий за традиционные профессиональные рамки интерес к науке — важный феномен истории познания и истории культуры в целом. Когда спрашиваешь себя, в чем его связь с неклассической наукой XX в., то на первый план выступает интегрализация современной науки, близость ее проблем к самым общим гносеологическим проблемам (высокая степень «внутреннего совершенства») и наиболее широкая экспериментальная проверка науки благодаря ее применению в производстве (высокая степень «внешнего оправдания»). Но именно указанные связи выявляют необратимость познания. Какие бы повороты, витки, возвращения назад ни включала история науки, в целом она направлена в одну сторону; время познания так же необратимо, как и время вообще. Более того, необратимость познания — необратимый переход от менее точных, менее конкретных сведений о мире к более точным, более конкретным, более обобщенным — и есть та составляющая культуры, которая делает необратимой ее историю. Речь идет не об индивидуальной мощи познающего разума — в этом отношении ученый XX в., даже самый крупный, даже Эйнштейн, вряд ли превосходит Ньютона, как и Ньютон вряд ли превосходит Платона и Аристотеля. Речь идет о необратимо растущей вооруженности интеллекта всеми итогами прошлого, о мощности его воздействия на производство и культуру, о широте того человеческого опыта, который переработан и обобщен в науке. Именно эта сторона науки и является предметом общего, а не только профессионального интереса.
Слово «ретроспекция» вовсе не означает вызова идей прошлого на суд современности и отнесения одних идей к классу заблуждений, а других — к классу предвосхищений современных представлений. Нет, здесь речь идет о поисках внутренних противоречий, толкавших науку к новым концепциям.
По отношению к Ньютону такие поиски очень сложны. Не только и не столько потому, что традиционный портрет Ньютона делает его символом «классицизма» (В. Оствальд, разделяя ученых на «классиков» и «романтиков», определяет «классиков» по их сходству с Ньютоном). Подобный образ Ньютона легко может быть дополнен констатацией внутренней коллизии между строгим и стройным решением собственно механической задачи «Математических начал натуральной философии» (определение положения тел по действующим на них силам) и весьма неклассическим решением второй задачи (определение сил по положению тел). Более сложная проблема возникает в связи с тем, что концепция Ньютона изменила самые критерии научной истины — уже упоминавшиеся нами «внутреннее совершенство» и «внешнее оправдание», изменила соотношение логико-математического анализа и эксперимента, изменила самый стиль научного мышления. Поэтому изучение жизни и творчества Ньютона не может не включать помимо собственно исторических констатаций анализа инвариантов науки и таких преобразований, которые требуют новых, более общих инвариантов.
Мы уже не только сопоставляем каждое научное открытие с установившимися фундаментальными принципами, но и видим в нем аналог научной революции прошлого, зародыш, залог новой научной революции или повод к ней, нечто требующее дальнейшего преобразования фундаментальных принципов. При этом в поле зрения оказывается особый характер необратимости научного познания в революционные эпохи его истории.
В современной теории необратимости времени сохраняется введенное X. Рейхенбахом разграничение слабой необратимости, которая состоит в нетождественности того, что произошло раньше, и того, что произошло позже, и сильной необратимости, которая видна уже сейчас, в данный момент, без оглядки назад и без прогноза на будущее. В случае сильной необратимости прошлое и будущее как бы сжимаются в настоящем, в теперь. Прошлое еще не ушло, будущее уже налицо, они еще не разделены временным интервалом; то, что принадлежит прошлому, еще не стало прошлым, то, чему принадлежит будущее, еще не победило. Они сосуществуют и борются, и трещина между прошлым и будущим иногда проходит через жизнь и мировоззрение мыслителя. У великих мыслителей — всегда. Величие мыслителя — во включении в его творчество большого ряда идей прошлого и большого ряда идей будущего. Эти ряды сближаются, и здесь — в этом и состоит тайна гениального озарения — происходит необратимый переход познания на новый уровень, на новый круг. Подобный переход бывает подчас мучительным и трагичным, но он всегда остается триумфом познания, выражением его «сильной необратимости».
Таким отчасти трагическим триумфом было творчество Галилея, когда ренессансная полихроматическая, проникнутая эстетическими критериями мысль прошлого (еще не ставшего прошлым, еще живого) столкнулась с уже возникшим сухим и четким, опирающимся лишь на математику и эксперимент научным мышлением Нового времени. Это столкновение означало необратимый (в смысле «сильной необратимости») переход к еще большему сближению сенсуального образа и логической концепции; оно привело к устранению из картины мира сенсуально непостижимого центра мироздания, к появлению так или иначе связанных между собой физических представлений, философских понятий и логических норм, которым принадлежало будущее.
Подобная трещина проходила через творчество Максвелла. Это был переход от старого представления об электромагнитном поле как о некотором всепроникающем эфире, обладающем теми же свойствами, что и традиционные объекты механики, к новой, не механической (в конце концов подчинившей себе в XX в. механику) концепции поля. Механические модели эфира — это прошлое физики, которое уже было подорвано, но еще не исчезло. Немеханические представления — будущее, которое еще не реализовалось в однозначной концепции, но уже существовало. Теория Максвелла объединяет прошлое и будущее, она связана с прошлым, как его обобщение и завершение, и с будущим, как его начало. Здесь тоже сильная необратимость познания, тоже революционная ситуация в науке. Она соединила новые научные теории — электродинамику Ампера и Фарадея — со старыми, ньютонианскими принципами и вместе с тем показала, что «внутреннее совершенство» электродинамики требует трансформации этих принципов.