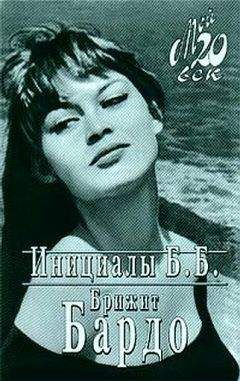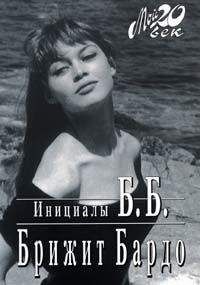Папа обрадовался. Он решил, что заводы Бардо — дела как раз шли в гору — в результате упорных семейных трудов принесут плоды! Друзья потребовали шампанское и выпили за предсказанье прекрасной Пифии. Они и представить себе не могли, что не завод прославит на весь мир фамилию Бардо, а я, безвестная девочка, и что уготована мне судьба удивительная, и что подтвержу я чуднґое пророчество, ни разу в жизни этой фамилии не сменив, несмотря на все свои многочисленные замужества.
* * *
Мне было три с половиной года, когда начались неприятности.
Мама стала какой-то не такой, не то больной, не то рассеянной, папа казался озабоченным и раздраженным. А Дада была сама доброта, к Дада я всегда отовсюду бежала, и она меня согревала и нежила. А потом у меня заболел живот, заболел очень сильно, и ко мне позвали противного дядьку, вонявшего лекарством. Он принес с собой странные инструменты. И, слышу, стали говорить: аппендицит, операция, и прочие страшные слова, о которых я старалась забыть на руках у Дада.
А потом мне сказали, что у меня скоро будет маленький братик или сестричка, что мама очень устала и что я должна быть умницей, хорошо себя вести и не шуметь.
Как же я беспокоилась!
Дада плакала и складывала чемоданы. Она уложила даже сумку с моими вещичками. Я-то считала, что еду с Дада в Милан к Буму и Бабуле, маминым родителям, которые там жили. А на деле очутилась в больнице с папой. Папа — он дал мне прозвище Крон — уверял, что я счастливица, говорил, что буду надувать мяч. А Дада насовсем вернулась к бабушке с дедушкой, потому что будущему младенцу и мне брали настоящую няню. Я плакала часами в своей мрачной больничной палате. Мяч или не мяч, а подайте мне Дада!
Мяч-то я получила! Страшно вспомнить!
Меня усыпили эфиром, а на маску наложили огромный мяч — контролер дыханья. Припоминаю жуткий, нечеловечески белый мир. Помню свой дикий страх, чувство полной беспомощности. А дальше… дальше тишина.
Задыхаюсь! Умираю!
Я была еще совсем мала, но вспоминаю все очень ясно. Кстати, животные, как дети, беззащитны, а чувствуют все то же, и потому, я уверена, позорно, бесчеловечно пользоваться их слабостью и умерщвлять их всевозможными способами, к примеру, в медлаборатории в ходе научных опытов. Я не против опытов, я против убийства.
Когда я пришла в сознанье, Дада, моя Дада улыбалась мне.
Меня тошнило, было очень больно, но Дада со мной сидела!
Папа спал на раскладушке, а на полочке над раковиной в банке с формалином плавал мой аппендикс! Ни дать ни взять, сигара с надрезанным концом — фу, гадость! Мне хотелось пить, и Дада макала палец в стакан с водой и смачивала мне губы, при этом воркуя на свой манер — что меня успокаивало.
А потом, позже, пришла Бабуля Мюсель, милая, мягкая, теплая, толстая. Она плакала и называла меня своей «ластонькой». А рядом стоял дедушка, добрый и — умный: я говорила — «бумный». У деда «Бума» была черная борода. Он целовал меня, коля усами, доставал из кармана часы, и они тикали: так-так, так-так. И я уже не хотела расстаться ни с ним, ни с часами.
Тапомпон пришла тоже. Она работала в больнице и прозвище получила «Тампон». Бабуле она приходилась сестрой и из «тети Тампон» вышло «Тапомпон». Бывало, зажмет Тапомпон мне нос и заставит проглотить таблетку. Потом поцелуй в щечку и укол в попку. Скажет: «Раз, два, три» — готово дело!
В день, когда папа меня — с мишкой Мердоком и склянкой с аппендиксом в руках — все вместе в охапке привез из больницы домой, я с ума сходила от радости. Скорей бы увидеть маму, показать ей гадость, которую вынули у меня из живота, и шрам, покрытый ртутной мазью, и сказать ей, как я ее люблю! Увидеть, увидеть! Но увидела я жуткую тетку, урода с накладным пучком и волосатой бородавкой на подбородке.
Звали ее Пьеретта, и пахло от нее ужасно.
Это и была новая няня!
Она взяла меня за руку. Я завопила! Она попыталась поцеловать меня — я вопила. Она заговорила быстро и громко — я вопила и вопила. Тогда папа снова подхватил меня и понес к маме в спальню. Мама — красивая, горячая. Я вцепилась, зарылась в нее, дышала ею, обливала ее слезами, обожала и не хотела отпустить — боялась жуткую тетку, мамочка, мамочка… Я так и заснула у нее в постели.
На другой день, проснувшись, я помчалась в спальню к Бабуле. А Бабули и нет. Ну, знаете!
Кровать была такой же безупречной, как накануне, и так же пахло ланвеновским «Арпежем». Я ринулась к Буму, уж он-то, ясно, в постели, тепленький. Но трубкой и лавандой пахнет, а Бума нет.
Я — на кухню, к Дада. Дада на месте.
Дада объяснила, мешая французский с итальянским, что у меня родилась сестричка:
«Понимаес, Бриззи, твой мамма родило ребенко, уно сестрицко ке си кьяма Мария-Занна. Твой бабулио сидело с мамма всю ночь, а Бум узе усол на работто».
А моя не понимай ничеготто!
Что это такое — сестричка?
Жизнь и без того была сложной: уже имелась тетка-страшила с пучком, а если еще и сестричка, к папе с мамой я назад не желаю. Тем временем я поглощала булочки с горячим молоком. Хорошо было мне, крошке, у Дада и Бума с Бабулей! Когда Бабуля, без сил, наконец, вернулась, я ткнулась ей в колени, стала карабкаться по ногам и чуть не свалила ее. Эх, Бабуля, бедняжка, и любила же ты меня, если не послала куда подальше!
Но все рано или поздно кончается, кончились и мамины роды.
И с мишкой Мердоком в левой руке и бабулиной рукой в правой я вернулась на авеню Бурдонне. Уродина с пучком была там, но я на нее и не глянула, а ворвалась к маме в спальню. И остановилась как вкопанная! У нее на руках, где прежде ласкалась я, теперь лежало что-то вроде мишки Мердока, розовое, кругленькое.
А мама говорит: это Мижану, крошка-сестричка, и скоро я буду играть в нее, как в куклу. И должна всю жизнь оберегать.
И вот у меня на руках тяжесть и тепло крошечного пискуна. Один поцелуй — и контакт установлен. В три с половиной года я узнала чувство ответственности, приняв Мижану. Меня так и подмывало шепнуть папе на ухо: «Папочка, а на Новый год у меня будет братик?»
Когда дедушка с бабушкой Бардо, жившие в Линьи-ан-Баруа, узнали, что у них опять внучка, уваженья к супругам Пилу-Тоти в них заметно поубавилось. И папа послал им телеграмму: «Вы не поняли. Вместо одной Тоти у нас целых три. Три жемчужины в короне!»
* * *
Мы приехали в Линьи-ан-Баруа к папиным родителям.
Мама была еще слаба и не выходила из своей комнаты, а я знакомилась с другими дедушкой и бабушкой, совершенно не такими, как Бум с Бабулей, а еще с кучей дядей и теть и двоюродных сестер и братьев.
И ужасно робела!
Дом был огромный, всюду окна. Перед домом, посредине, — квадратный участок. За домом — парк, сплошь деревья, цветы, особенно розы — розы дедушка Бардо обожал. Он часами готов был нюхать и разглядывать их. А потом долго не мог разогнуться, так и стоял, скрючившись и опершись на палку.