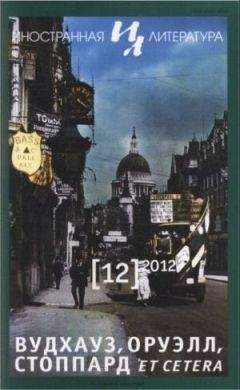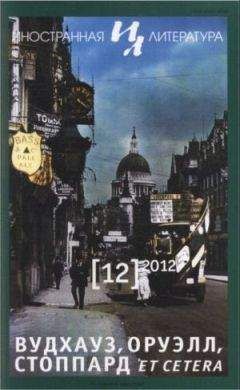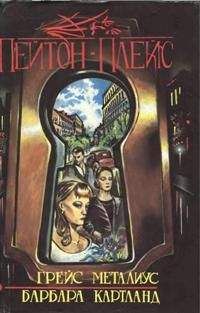В 1881 году, гостя у сестры в Гилфорде, Элеонора раньше срока родила маленького Плама и вскоре увезла его в Гонконг, где, как это было заведено, отдала кормилице-китаянке. В 1883 году Эрнест и Элеанора привезли малыша Вудхауза вместе с двумя его старшими братьями в Бат и поручили их заботам мисс Ропер, поборницы чистоты и порядка. Это ее Вудхауз выводит в рассказе «Снова о нянях», где пишет: «А главное, может ли тонкий человек ощущать покой рядом с тем, кто бивал его некогда головной щеткой?»[5]
Целых три года юные Вудхаузы не видели ни Эрнеста, ни Элеонору. Помещенные под своего рода домашний арест, они разделили судьбу многих детей Британской империи конца XIX века. Если сложить все то время, что Вудхауз провел с родителями между тремя и пятнадцатью годами, то в сумме едва ли наберется полгода — чудовищно мало, как ни посмотреть. «Мать казалась нам чужой», — вспоминал он в старости. Тогда подобное отчуждение родителей от детей считалось нормальным. Сегодня оно кажется безответственным и даже бездушным. Это разобщение наложило отпечаток на всю жизнь будущего писателя.
Литературоведы часто сравнивали детство Вудхауза и Киплинга. Несмотря на разницу в возрасте (Киплинг был на шестнадцать лет старше), сходство и в самом деле заметно. Оба — представители среднего класса, оба росли в поздневикторианской Англии, пока их родители были на Востоке, обоих воспитывали чужие люди, у обоих рано проявился талант рассказчика. Но Вудхауз гораздо легче переносил свое полусиротское положение — возможно, просто потому, что его не чувствовал или не позволял себе чувствовать.
Для очень многих писателей душевные раны служат источником вдохновения. По сравнению с другими писателями: Редьярдом Киплингом, Г. X. Манро (Саки), Сомерсетом Моэмом или Джорджем Оруэллом, выросшими в сходных условиях и перенесшими сходную психологическую травму, — Вудхаузу повезло: тяжесть травмы смягчалась его удивительно легким, покладистым и приятным нравом, о котором вспоминали все, кто только его знал. Детство приучило его к одиночеству, а гений (и это не преувеличение) помогал ему заполнять одинокую жизнь смешными фантазиями. Он увлеченно исследовал глубины абсурдного; то была часть его защитной стратегии. Вудхауз очень серьезно относился к своему творчеству, но оно, увы, как и все комическое, противится серьезному анализу. В зрелом возрасте он всегда гнал от себя уныние и тоску, а его родные делали все возможное, чтобы оградить его от огорчений. Интересный факт: в немецком плену он записал в дневнике, что для защиты от непереносимых мыслей «нужно приучить себя тут же переключать внимание на другое». Если обратиться к «психологии индивидуума» (выражаясь словами Дживса), идеализация Вудхаузом родителей — хрестоматийный случай того, что в психоанализе называют расщеплением. Уже пожилым человеком, вспоминая о родителях, он сказал: «Отец нам во всем потакал, мать не очень… С отцом… у меня всегда были очень хорошие, хоть и не слишком близкие отношения». Такие признания для Вудхауза редкость: обычно он — сама уклончивость. В зрелом возрасте, благодаря постоянным путешествиям, он довел искусство эскапизма до совершенства[6]. Психотерапевт решил бы, что это реализация детской мечты о бегстве из семьи, но в текстах Вудхауза этого не видно. В мемуарах он продолжает, как сказал бы Берти Вустер, носить маску:
Для автобиографии нужны чудаковатый отец, несчастливое детство и жуткая школа. У меня ничего такого не было. Отец — нормален, как рисовый пудинг, детство — лучше некуда, а школа — шесть лет блаженства[7].
Но что бы он ни говорил, детство у него было одинокое и эмоционально бедное, что приучило его довольствоваться собственным обществом, уходить в себя, спокойно отрешаться от этого мира и искать развлечений в мире другом — воображаемом. Он всегда говорил, что хочет стать писателем. Богатство его вымышленного мира отражает пустоту того действительного мира, который окружал его в ранние годы.
Так Вудхауз, этот образцовый англичанин, привык довольствоваться тем, что имеет, и никому не жаловаться. Он научился видеть только светлую сторону жизни и с философским спокойствием принимать все, что преподносит судьба. В его словах: «Я не помню, чтобы хоть раз в те годы почувствовал себя несчастным», — можно, говоря языком психологов, увидеть, как работает защитный механизм отрицания. Это умонастроение он сохранил до конца своих дней. В 1924 году он писал:
Как писатель-юморист я всегда страдал от того, что характер у меня веселый, сердце здоровое, а жизнь ничем не омрачена. Страдал — потому что читатели любят, чтобы автор смешных рассказов был человеком глубоко несчастным и если и писал что-нибудь развлекательное, то только для того, чтобы облегчить невыносимую тяжесть своего, как он давно уже это понял, никчемного существования.
Сейчас уже невозможно сказать, была ли способность отгораживаться от всего плохого, что подстерегало его в жизни, врожденным свойством характера Вудхауза или приобретенным умением, вошедшим в привычку. В любом случае, эта способность всегда выручала его и сообщала беззаботный тон его произведениям. Детский психотерапевт Адам Филлипс считает, что у Вудхауза «как и у любого брошенного ребенка, не мог не возникнуть вопрос: почему мои родители так меня не любят, что не хотят быть со мной? Почему за мной присматривают чужие?» Психотерапевты выделяют, по меньшей мере, три типичных реакции на отсутствие родителей в раннем детстве. Во-первых, у маленького Вудхауза должен был обостриться интерес к миру взрослых, к разговорам, которые они ведут между собой. Пытаясь объяснить себе, чем вызвана разлука с родителями, он, наверное, придумывал истории о причинах их непонятного отсутствия и со временем пристрастился к подобным выдумкам — впоследствии самого разного характера. Во-вторых, он мог находить утешение в повторяющихся ритуалах однообразной ежедневной жизни и ревностно исполнять их, боясь малейших отступлений. И в самом деле, в зрелые годы он всегда старался придерживаться железного распорядка. В-третьих, с ранних лет лишенный матери, он не мог не относиться к противоположному полу настороженно, предпочитая дружбу с мужчинами. Достаточно даже поверхностного взгляда на его произведения, чтобы обнаружить постоянное опасливое недоверие (и даже неприязнь) к тетушкам, невестам, старым девам и писательницам. Рассказав в «Билле Завоевателе» про «не только вулканическое, но и неизменное» чувство Билла Веста к Алисе Кокер, Вудхауз продолжает: «А она его — ломом». И подводит итог — рефрен всего его творчества: «Одно слово, женщина». «Покажите мне безупречно утонченную и изысканную особу женского пола, — говорит Берти Вустер в романе ‘Держим удар, Дживс’, — и я вам докажу, что на самом деле она настоящий Наполеон по части мучительства»[8]. Адам Филлипс полагает, что у Вудхауза развилась боязнь женщин — он не способен был доверять им, вступать с ними в близкие отношения, позволять себе сильные чувства к ним. Женщины должны были казаться маленькому Вудхаузу исключительно сильными и невыносимо организованными существами, причем «организованность», по мнению Филлипса, означает «нежелание прислушиваться к детским желаниям и потребностям, а это, с точки зрения ребенка, то же самое, что равнодушие».